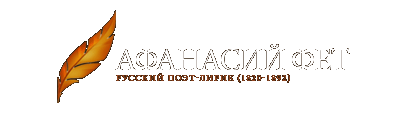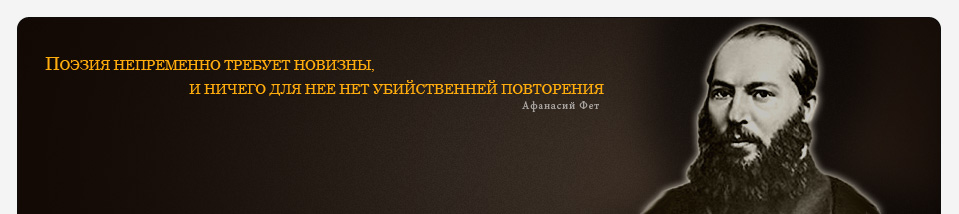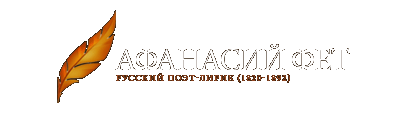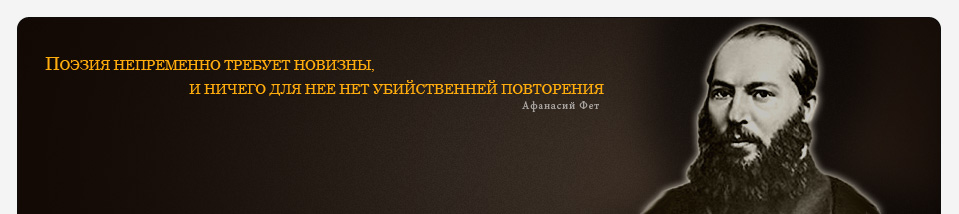|
А. А. Фет - Мои воспоминания - часть 4
Жена моя приехала из Москвы по последнему санному пути в марте месяце,
и мы заняли единственно отделанную и обитаемую комнату-спальню, в которую
надо было пробираться по клеткам накатника, на который еще не успели
наложить паркет. Но по мере накладки его, мы, так сказать, завоевывали одну
комнату за другой из-под рук столяров, маляров и оклейщиков.
Расчистили снег в парке по дорожке к теплице, откуда нанесли олеандров
в цвету, кипарисов, филодендронов и множество цветов. Но несчастная, крытая
соломой, хотя и каменная теплица грозила окончательным разрушением и
настоятельно требовала коренного исправления. Словом, куда ни обернись,
всюду предстояла безотлагательная поправка, начиная с каменной террасы перед
балконом, чугунные плиты которой были покрыты грудою развалившихся каменных
столбов. На место, выбранное нами с осени для хутора, перевезены уже были по
зимнему пути и дубовые срубы для жилой избы и для будущего колодца, рыть
который пришли малоархангельские копачи.
<...> Весна наступила теплая и обворожительная {178}. 25 марта мы уже в
летних одеждах ходили по парку, и посеянный нами овес стал уже всходить.
Ввиду полного благорастворения воздуха мы приглашали наших гостеприимных
московских хозяев Боткиных приехать к нам со всем семейством и получили их
обещание прибыть в конце апреля.
При полном расстройстве, в котором мы застали имение, невозможно было
достаточно торопиться поправками. Вместо старых, местами повалившихся или
совершенно отсутствующих плетней, дозволявших крестьянской скотине бродить
по всему парку, испещряя газоны свинороями, от дома наскоро строилась
дубовая решетка до самой реки на протяжении каких-нибудь 150-ти сажень. И
краска ожидала как новую решетку, так и новые железные крыши. Очищенный от
обломков балкон получил прежний вид с новыми тумбами и черными решетками. Я
сам старался собственноручно исправить всякий попадавшийся мне под руку
изъян.
Однажды, когда я садовыми ножницами подрезал ветки сирени, слишком
свесившиеся на дорожку, ко мне примчался мальчик-слуга из грайворонских
дворовых с радостным восклицанием: "Петр Афанасьевич приехал".
Не успел я опомниться, как прибежал брат и бросился обнимать меня
{179}.
<...> С отъездом брата сельская тишина вполне овладела мною. Но
привыкши к обязательной десятилетней деятельности, я скоро почувствовал себя
под невыносимым гнетом скуки. Ухудшавшиеся с каждым годом внешние условия
сельской жизни отпугивали меня от хозяйственных занятий. Не будучи в
состоянии исправить безобразий, я старался по возможности не видать их и
поэтому даже при прогулках по парку избегал ходить по опушке, а держался
средних дорожек. Усидчивая и серьезная работа сделалась мне необходимою. Я
стал читать Канта, перечитывал Шопенгауэра {180} и даже приступил к его
переводу: "Мир как воля и представление".
В июне, к величайшей моей радости, к нам приехал погостить Н. Н.
Страхов, захвативший Толстых еще до отъезда их в Самару. Конечно, с нашей
стороны поднялись расспросы о дорогом для нас семействе, и я, к немалому
изумлению, услыхал, что Толстой помирился с Тургеневым.
- Как? по какому поводу? - спросил я.
- Просто по своему теперешнему религиозному настроению он признает, что
смиряющийся человек не должен иметь врагов, и в этом смысле написал
Тургеневу.
Событие это не только изумило меня, но и заставило обернуться на самого
себя.
"Между Толстым и Тургеневым, подумал я, была хоть формальная причина
разрыва; но у нас с Тургеневым и этого не было. Его невежливые выходки
казались мне всегда более забавными, чем оскорбительными, хотя я не решился
бы отнестись к ним так же, как покойный Кетчер, который в подобном случае
расхохотался бы своим громовым хохотом и сказал бы "дурака". Смешно же
людям, интересующимся в сущности друг другом, расходиться только на том
основании, что один западник без всякой подкладки, а другой такой же
западник только на русской подкладке из ярославской овчины, которую при
наших морозах покидать жутко".
Все эти соображения я написал Тургеневу.
К величайшей радости моей, Страхов, - которому, вручивши немецкий
экземпляр Шопенгауэра, я стал читать свой перевод, - остался последним
совершенно доволен.
Хотя я никогда не стеснялся указывать Петруше Борисову на его промахи,
тем не менее любил вступать в разговоры с этим замечательно сметливым и
талантливым малым и притом безусловно правдивым.
- Ты знаешь, - сказал я ему, - что материнские твои Новоселки даже при
наилучшем управлении дают едва три тысячи рублей, а отцовское Фатьяново -
около тысячи двухсот рублей. Пока мы жили в Степановке, т. е. на сто верст
ближе, чем теперь, к твоим имениям, да к тому же я был опекуном и имений
Оленьки, расположенных в той же стороне, надзор за твоими имениями мог,
между прочим, обходиться значительно дешевле; но теперь, когда ты и сам-то
неохотно туда ездишь, заочное управление такими незначительными имениями
обходится несоразмерно дорого. Если бы ты, кончивши университетское
образование и отбывши воинскую повинность, располагал надеть высокие сапоги
и усиленным трудом подымать благосостояние наследственных гнезд, то я бы
ничего тебе не сказал.
- Дядичка, можно мне сказать тебе правду?
- Должно, как всегда.
- Оба эти гнезда, как ты называешь, мне ужасно несимпатичны; их
грустное, тяжелое прошлое гнетет меня до болезненности; мне так тяжело
бывать там.
- Если на то пошло, - заметил я, - то я не только понимаю твое чувство,
но и разделяю его, и поэтому предложил бы тебе продать эти оба имения, и
если получить за них хоть 70 тысяч, то, так как ты готовишься к ученому
поприщу, о личном сельском хозяйстве при этом не может быть и речи.
Положено было при первой возможности продать мценские борисовские
имения.
<...> На этот раз мы снова поехали встречать Новый год по привычке к
Покровским воротам; но меня тянула домой уже не обязательная служба, а
тишина сельского кабинета, с предстоящею постоянною умственною работой.
Благодарю судьбу, пославшую с тех пор этот успокоительный труд и
невозмутимые досуги.
В Москве я получил известие, что сестра Любовь Афан., благополучно
выдержав трудную операцию вырезывания рака, вернулась в Орел...
<...> Несмотря на удачную операцию в Вене, не оставившую после себя
никаких болезненных следов, Любовь Афанасьевна, собиравшаяся навестить нас в
Воробьевке, с каждым днем видимо ослабевала и гасла и наконец навеки заснула
в своем номере, откуда перевезена была в свой приход, в село Долгое и близ
церкви похоронена рядом с мужем.
Однажды, когда мы с Петей Борисовым ходили взад и вперед по комнате,
толкуя о ширине замысла и исполнения гетевского "Фауста", Петруша сказал
мне, что он в шутку пробовал переводить особенно ему нравившиеся стихи этой
трагедии, как Наприм., в рекомендации Мефистофеля ученику изучать логику.
- Я, - говорил Борисов, - перевел!
Тут дух ваш чудно дрессируют,
В сапог испанский зашнуруют.
- Прекрасно! - воскликнул я, - как бы разом учуяв тон, в котором
следует переводить Фауста, - и при этом признался Пете, что много раз, лежа
в Спасском на диване в то время, как Тургенев работал в соседней комнате,
усердно скрипя пером, - я, как ни пытался, не мог перевести ни одной строчки
Фауста, очевидно, только потому, что подходил к нему на ходулях, тогда как
он сама простота, доходящая иногда до тривиальности. Но тут, продолжая
ходить взад и вперед с Борисовым, я шутя перевел несколько стихов, которые
помнил наизусть.
- Дядичка! - воскликнул Борисов: - умоляю тебя, возьмись за перевод
"Фауста". Кому же он яснее и ближе по содержанию, чем тебе?
- Не могу, не могу, - отвечал я. - Знаю это по опыту.
На этом разговор и кончился. Тем не менее, в скорости по отъезде
Борисова в лицей, я осмелился приступить к переводу Фауста, который стал
удаваться мне с совершенно неожиданной легкостью {181}.
-----
Встретив Новый год и на этот раз у Покровских ворот, я, по крайней мере
лично, пробыл в Москве весьма короткое время и уехал в Воробьевку, заехавши
по дороге в Ясную Поляну.
Отыскался и серьезный покупатель на Новоселки. Не буду вспоминать всех
раздражительных и тяжелых минут, по случаю всякого рода мелочных
препятствий, возбужденных при этом покупателем. Неприятно обрывать свое
собственное, но быть вынужденным обрывать чужое, вверенное вашей охране, -
пытка. Но вот, худо ли, хорошо ли, запродажа наших родных Новоселок
состоялась, и я со свободною душой мог снова усесться в моем уединенном
кабинете, устроенном, как я выше говорил, в числе трех комнат на бывшем
чердаке. Срок аренды орловскому имению, снятому Иваном Алекс. кончился, и он
возобновить его к Новому году не захотел; а потому, по просьбе нашей, 70-ти
летняя старушка матушка его, Тереза Петровна, переехала к нам.
Оглядываясь на свои тихие кабинетные труды того времени, не могу без
благодарности вспомнить доброй старушки, сделавшейся безотлучной гостьей
моего кабинета. Окна во всем, бывшем чердаке, а следовательно и в моем
кабинете, были пробиты уже при нашей перестройке дома, и рамы, сделанные из
столетних досок, уцелевших в виде закромов в амбаре, были до того плотны,
что старушка, чувствительная ко всяким атмосферным влияниям, садилась с
своим шитьем зимою на подоконник. Так как в стихотворных переводах я, кроме
верности тона, требую от себя и тождественного количества стихов, то иногда
давал Терезе Петровне в руки гетевского "Фауста", прося сосчитывать стихи
отдельных действующих лиц. При этом она всегда опережала меня и говорила:
zwei или drei und zwanzig - раньше чем я говорил: два или двадцать три.
Невзирая на такую систематическую проверку, мы ухитрились пропустить три
стиха, которые были восстановлены уже в издании 2-й части трагедии.
<...> Наслушавшись зимою восторженных восклицаний Каткова об
очаровательной природе Крыма, я все лето толковал, что стыдно проживать в
недалеком сравнительно расстоянии от Крыма и умереть, не видавши южного
берега, невзирая на Севастопольскую железную дорогу. К этому желанию
случайно присоединился дошедший до меня слух, что добрый мой товарищ,
однополчанин кирасирского Военного Ордена полка - Ребиллиоти, - покинувший
полк еще до Венгерской кампании, женат и проживает в своем имении близ
станции Бахчисарай. Конечно, тотчас же на письмо мое к нему последовало
самое любезное и настойчивое приглашение начать знакомство с Крымом с его
имения в долине Качи.
Как ни порывались мы с женою и Иваном Александровичем в Крым, молотьба
и сев не отпустили нас раньше последних чисел сентября, хотя мы чувствовали,
что несколько запоздали. Наконец мы свободны и в вагоне с запасом закусок,
чайных приборов и сливок. Того же вечера прибываем в Харьков и, пересевши в
полдень на следующий день в Лозовой на другой поезд, пускаемся в дальнейший
путь. Ночь, озаряемая полнолунием и мириадами звезд, спустилась на землю
почти светла, как день. Вдруг поезд наш покатился по белоснежной земле, и я
догадался, что мы подходим к Сивашу с его вековечным соляным богатством.
Человек, составивший себе из географии поверхностное понятие о Крыме как о
горной стране, будет, проехавши Перекоп, немало удивлен полным отсутствием
видоизменения почвы. Кругом все та же необозримая степь, на которую пришлось
наглядеться, начиная с Харькова. Понятно, почему крымские борзые искони
считались самыми выносливыми и сильными. Но вот солнце мало-помалу озарило
безоблачное небо. Мы с первой станции благодушно занялись утренним кофеем.
- А, вот они наконец! - воскликнул я, взглянув в левое окно вагона.
- Кто они? - спросил Иван Александрович.
- Горы, - отвечал я, указывая на иссиза-лиловую дымчатую гряду,
потянувшуюся на горизонте к юго-востоку.
- Помилуйте, да это облака, - заметил Иван Александрович.
- Погодите с час или два, - отвечал я, - и как нам неизбежно
приближаться к этим облакам, то вы убедитесь, что они такое.
Окончательное убеждение Ивана Александровича не заставило себя долго
ждать, когда мы въехали в ущелье, где Симферополь приютился на берегах
Салгира.
О скоро ль вновь увижу вас,
Брега веселые Салгира? {182}
"Вот, - невольно подумал я, - как игриво весела эта невзрачная речонка
в волшебных стихах поэта". Но вот Бахчисарайская станция.
- Есть экипаж от Ребиллиоти?
- Есть.
Проехав минут сорок по каменистой дорожке по долине Качи, мы въехали в
каменные ворота прекрасной каменной, но видимо запущенной усадьбы, и застали
на дворе самого хозяина видимо нас поджидавшего. Я тотчас его узнал,
невзирая на его седые волосы. Он поспешил познакомить нас с своей женой, как
и он, гречанкой, сохранившей еще явные следы красоты, а также и с милыми
своими дочерями.
Когда, оправившись после двухсуточного пребывания в вагоне, мы стали
осматриваться кругом, то были поражены всем видимым. Признаюсь, я ничего
подобного нигде не встречал. Небольшой, но весьма поместительный двухэтажный
дом с подъездом со двора выстроен, очевидно, умелой и широкой рукой. В
нижнем этаже расположены жилые, а вверху парадные комнаты. Дубовый потолок
гостиной украшен посредине большою розеткой из золоченых металлических
листьев аканфа. Стеклянная дверь выходит на балкон, висящий прямо над
быстрыми струями Качи, заключенной в каменный арык, вращающий могучим
падением воды мельничное колесо, но при закрытии шлюза орошающий все четыре
десятины сада. И что это за сад смотрит вам в лицо! Какие тополи, кипарисы и
орехи стоят тотчас же по другую сторону арыка, уносящего у ног ваших
множество падающих в него яблок.
Чтобы не отнимать у вас возможности любоваться садом и лежащими за ним
горами, гигантские деревья расступаются, связанные между собою только
могучим побегом лозы, бросившейся с высоты и увешанной темно-сизыми
гроздьями. Самые фруктовые деревья до того усыпаны краснеющими яблоками, что
без сотен подпорок не в состоянии бы были выдержать тяжести.
"Вот где, думал я, человек может жить обеспеченно при наименьших со
стороны своей усилиях. Конечно, и тут необходимо думать о поддержке сада, но
что же значит работа на четырех десятинах в сравнении с нашими хозяйствами
на тысячах десятинах". А между тем видимо беспечный хозяин говорил мне, что
сад его был бы игрушечка, если бы он мог тратить на него 2 тысячи рублей в
год. А хозяйка жаловалась, что не далее как нынешней весною торговцы давали
ее мужу за нынешний урожай 20 тысяч рублей, но он не отдавал до самой осени,
а теперь продал сад за 8 тысяч. "И так, - говорила она, - мы поступаем
ежегодно".
По поводу восхищения моего Актачами, хозяин сказал: "Это имение
представляет только бедный остаток отцовского достояния. Отец наш, отставной
генерал-лейтенант, мало-помалу приобрел почти все земли южного берега,
которые, конечно, в то время не представляли своей настоящей ценности, и
отец приобретал их у татарских владельцев, иногда выменивая на восточные
ятаганы и сабли. Только со временем все эти имения, как Мисхор, Гурзуф,
Ливадия, Ореанда и т. д., перепроданы им новым владельцам.
Нечего говорить, что после прекрасного обеда, венчанного самыми
изысканными фруктами, мы б кабинете хозяина предавались нашим полковым
воспоминаниям, и тут я узнал, что бывший наш товарищ, севастопольский грек,
полковник Тази в настоящее время проживает в Севастополе в доме зятя своего,
отставного капитана Реунова.
Прогостивши два дня у любезных хозяев, мы уехали от них с таким
расчетом времени, чтобы иметь возможность осмотреть Бахчисарай и на другой
день с утренним поездом уехать в Севастополь.
Не буду говорить о замечательном в своем роде и характерном, хотя и
небогатом дворце и ханском кладбище; скажу только, что Бахчисарай с его тес-
ной горной улицей, харчевнями, лавками, медными и жестяными производствами,
действующими открыто на глазах прохожих, сохранил полностью характер
азиатского города. В лучшей гостинице, где пришлось нам ночевать, мы после
девяти часов вечера могли только получить чайник кипятку, так как самовара
уже не полагается.
Но вот на другой день, пройдя несколько тоннелей, мы остановились на
Севастопольской станции. Говорят, в настоящее время Севастополь неузнаваем.
Но в то время он производил самое тяжелое впечатление почти сплошными
развалинами. Кроме изуродованных стен в бывших домах ничего не оставалось, и
благодаря мощной южной растительности в разломанные амбразуры окон и дверей
порою виднелись зеленеющие деревья. В гостинице на расспрос мой о доме
Реунова указали на развалину на противоположной стороне улицы, предупреждая,
что Реунова я должен искать за этими развалинами в другом, уже обновленном
его доме. Добравшись по адресу, я спросил квартиру полковника Тази, и денщик
его ввел меня к моему старому Александру Андреевичу.
Еще во время моего адъютантства, когда Тази командовал пятым
эскадроном, генерал Бюлер жаловался, что Александр Андреевич порою не слышит
команды; но при севастопольской встрече на вопрос мой о здоровье Тази
отвечал: "Как видишь, слава богу, здоров, только глух стал". И
действительно, невзирая на приставленную им к уху ладонь, нужно было ему
кричать, и сам он, не соразмеряя звуков, - кричал нестерпимо.
- Ну как же ты поживаешь? - спросил я его.
- Да слава богу! Получаю небольшой доход с наследственных садов да
пенсию; и вот поселился у своего родственника, отставного капитана Реунова,
который женат был на моей покойной сестре. Тот тоже получает пенсион за свою
севастопольскую службу, и кроме того в этом доме у него бани, в которые
ходит много народу и поэтому довольно доходные. Даром-то жить как-то
совестно; так я плачу ему за эти две комнаты 25 рублей и ежедневно хожу к
нему обедать. Гостей у него никогда не бывает, и мы всегда обедаем только
втроем: он с женою и я.
- Да ведь ты же сказал, что твоя сестра умерла?
- Умерла, братец, точно, умерла 6 лет тому назад. Только зять мой
никогда без нее обедать не сядет. Ей ежедневно накрывается третий прибор, и
против него ставится большой ее фотографический портрет. Это, братец,
большой чудак. Он вздумал было мне отказывать деньги по духовному завещанию.
Насилу я мог его уговорить, что это смешно. Ну на что мне деньги, когда я не
знаю, куда и своих девать? Сам он ежедневно ходит колоть дрова для бани. Ах,
да вот и он, - сказал Тази, глядя из окна во двор.
Взглянув в свою очередь в окно, я увидал худощавого старичка в блузе
неопределенного цвета, в серых нанковых старых брюках и женских изношенных
башмаках на босу ногу. Минут через пять тот же старичок вошел в комнату
Александра Андреевича, который тотчас же познакомил нас. Старичок присел
против меня на стул, и разговор сам собою склонился к обороне Севастополя и
к печальному виду покрывающих его развалин.
- Да, - сказал Реунов, - развалины эти для других безмолвны, но для
меня они красноречивее всяких обитаемых жилищ. Поневоле поправил я вот этот
дом, в котором живу; а вот тот, что выходит на улицу и которого я
восстановить не соберусь, напоминает мне не только время осады, но и
покойную мою жену, жившую в нем почти до полного его разрушения. Как я ее ни
уговаривал изменить своим привычкам в такое опасное время, она продолжала
сидеть на своем обычном месте под окном и вязать чулок. Я в это время
командовал Николаевским бастионом при входе в Северную бухту и должен был
выдерживать усиленный огонь неприятельского флота. Тем не менее жена моя
ежедневно приходила ко мне на бастион со служанкой и всеми чайными
принадлежностями в обычное время - восемь часов вечера. Видя вокруг себя
ежеминутные жертвы неприятельских снарядов и потоки крови, я умолял жену не
подвергать себя бесполезной опасности; но она на все мои убеждения отвечала,
что иначе поступать не может, и, напоивши меня чаем, помогала убирать и
перевязывать раненых. У окна своего бельэтажа она привыкла по шуму снарядов
узнавать их направление и, однажды услыхав шуршание бомбы, подумала: "Вот
это уже близко к нам". В ту же минуту бомба, пробивши крышу и потолок,
прошибла пол у ног жены и, пройдя антресоль, разорвалась в подвальном этаже,
в котором отдыхала и чистилась сменившаяся рота. Занимавший антресоль
столяр, бывший в то время на дворе, услыхав взрыв бомбы, вспомнил, что у
него остался в комнате маленький сын в колыбели. Каков же был его ужас,
когда, вбежав в комнату, он увидал люльку пустою и рядом с нею отверстие в
полу, пробитое бомбой. В отчаянии он бросился в подвал, где из груды тел
заметил торчащую детскую ручку. Устранив посторонние мертвые тела, он достал
своего безжизненного ребенка и, положивши его на плечо, вынес на двор. На
воздухе мнимоумерший ребенок стал дышать и ожил, не имея на теле никаких
повреждений, за исключением царапин, полученных при падении в расщепленное
бомбою отверстие пола. День в день через 20 лет после этого происшествия
жена моя скончалась, и можно было подумать, что божественный промысл сказал
ей: "Ты усомнилась в минуту полета снаряда, так вот тебе чудо: ребенок,
можно сказать, влетевший в подвал верхом на бомбе, спасен. А ты сама
проживешь еще 20 лет". - Спасенный мальчик, - прибавил рассказчик, - и по
сей день ходит здоровый по улицам Севастополя.
Оригинальный отставной капитан говорил, что в свое время журналы
описывали поведение его жены.
Нигде и никогда не испытывал я того подъема духа, который так мощно
овладел мною на братском кладбище. Это тот самый геройский дух, отрешенный
от всяких личных стремлений, который носится над полем битвы и один способен
стать предметом героической песни. Кто со смыслом читал "Илиаду", начало
"Классической Вальпургиевой ночи" во второй части Фауста или
"Севастопольские рассказы" гр. Л. Толстого, - поймет, о чем я говорю.
Воспевать можно только бессмертных обитателей Елисейских полей {183}: царей,
героев и поэтов. Сюда же, конечно, относятся и классические образцы женской
красоты, как Елена, Леда, Алцеста, Эвридика {184} и т. д. Надо быть
окончательно нравственно убогим, чтобы не понимать, что такое отношение
вытекает не из поэтической гордыни, а из природы самого дела. Мы только что
указали на героические песни кровавой битвы, но попробуйте воспеть
изобретение пороха, компаса или лекцию о рефлексах, и вы убедитесь, что это
даже немыслимо. Но можем утешиться: на каком бы умственном уровне ни стояли
мы в настоящее время, - вековечный пример защитников Севастополя, почиющих
на братском кладбище, никогда для нас не пропадет, и Россия не перестанет
рождать сынов, готовых умереть за общую матерь.
В Ялту мы отправились из Севастополя на прекрасном пароходе при самой
очаровательной погоде; и классические волны Тавриды словно пожелали
встретить меня всеми знакомыми поэзии атрибутами. Ни в Балтийском, ни в
Средиземном море я не видал спасителя Ориона {185} - игривого дельфина; а
здесь, точно нарочно, они от самой Северной бухты и до Ялты беспрерывно
подымались из моря вокруг нашего парохода и, вырезаясь на некоторое время из
волн черной спиною, вооруженной саблевидным, назад загибающимся пером, снова
погружались в бездну. С парохода они казались не превышающими размером
среднего осетра, а между тем мне говорили, что эти громадные животные бывают
весом свыше 60-ти пудов.
В Ялте все номера в гостиницах были набиты посетителями, и мы рады
были, что отыскали две комнаты у татарина, недалеко от кипарисной рощицы, у
русской церкви. Насколько я недавно чувствовал себя в праздничном
расположении духа на северной стороне Севастопольской бухты и -
"Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду..." {186}
- настолько Ялта, невзирая на живописно возносящиеся над нею горные утесы,
производила на меня удручающее впечатление. Так как весь город очень
невелик, то моим спутникам нетрудно было принудить меня обойти его весь. Но
затем я положительно объявил, что более одних суток не в силах вынести этого
ничем не оправдываемого бездействия. Таким образом, не дождавшись прибытия
парохода, мы наняли коляску в Севастополь с ночлегом на половине дороги.
Когда на третий день мы поднимались в коляске по живописной горной
дороге, открывающей виды с птичьего полета на великолепные приморские дачи,
начиная с Ливадии, за нами раздался поспешный конский топот, и казак,
приблизясь к коляске, торопливо сказал: "Господа, потрудитесь дать дорогу:
царь едет". К счастию, дорога представляла на этом месте некоторое подобие
платформы, и коляска наша, по настоянию моему, сдвинулась к краю, очищая
путь. Вылезши из экипажа, мы стали ожидать царя, тотчас же выехавшего на
вороной казачьей лошади и в казачьем мундире из-за скалы на повороте дороги.
Как ни старались мы дать место ему и проезжавшей за ним коляске, в которой
между прочим сидел прелестный рыжий сеттер, - государь проехал мимо нас на
расстоянии трех или четырех шагов. Лицо его было бледно и уныло, и он
милостиво ответил на наши поклоны.
Но вот мы на высоте горного хребта и медленно въезжаем в знаменитые
Байдарские ворота, откуда путнику, едущему из Севастополя на южный берег,
вдруг, как со вскрытием театрального занавеса, впервые представляется
величественная картина необъятного моря. Прощай, море!
"Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой".
Грустно видеть, как знаменитая Байдарская долина, благодаря
неприятельскому пребыванию, все более и более, по мере приближения к
Севастополю, теряет свою лесную одежду и связанное с нею орошение.
Узнавши от госпожи Ребиллиоти, что в Крыму нет малины, жена моя по
приезде в Воробьевку послала в Актачи пуд малины, приготовленной во всех
видах. Но никакого известия о получении посылки не последовало, и я,
напрасно написавши два письма к Ребиллиоти, спросил старого Тази о причине
такого молчания. На это Александр Андреевич лаконически отвечал мне, что
известия нет потому, что с того света письма к нам не доходят, а Ребиллиоти
через две недели после нашего отъезда скончался. С тех пор всякие сношения
мои с Крымом прекратились.
<...> В июне пришло письмо, на адресе которого я с восторгом узнал руку
брата. Где он и что он? - Брат писал из Америки из штата Огайо: "Проживаю у
хозяина древесного питомника (Nurseryman). Это добрейшие и прекраснейшие
люди. Полиция притесняет из-за паспорта. Нельзя ли возобновить его? Здоровье
плохо. Нельзя ли сколько-нибудь денег?" Конечно, первейшим моим делом было
написать nurseryman'у, что в скорости за этим письмом он получит деньги и
что я удивляюсь словам брата касательно затруднений с паспортом в стране,
где паспортная система не существует. Единовременно с этим письмом я
обратился в контору Боткиных с просьбою о переводе денег через их
лондонского агента. Через полтора месяца nurseryman писал через своего
знакомого по-французски, что деньги он через банкирскую контору получил в
двойном количестве против должных ему Шеншиным, который на другой день после
отправки ко мне письма неизвестно куда скрылся, оставив свой небольшой
чемодан и золотые очки. Что этот господин, поступивший в работники в саду,
заслужил общую любовь, но по нездоровью не мог постоянно работать и вел себя
в этом отношении очень странно. Так напр., он не только не доедал пищи, но и
ночевал на сене под открытым небом, говоря, что не заработал этих удобств, и
никакие наши просьбы не могли убедить его в противном. О паспортах в Америке
и речи быть не может. "Мой сын, - писал содержатель питомника, - изъездил на
одноколке все окрестности, а объявление, коего экземпляр при сем прилагаю, с
просьбою указать за вознаграждение местожительство Шеншина, было разослано
во все концы Америки. Позвольте спросить, как поступить с излишними деньгами
и куда их отправить?"
В ответ на это письмо я просил любезного хозяина оставить деньги у
себя, на случай появления брата.
С той поры я о брате не слыхал ни слова.
-----
<...> Милая и крайне внимательная ко мне старушка Тереза Петровна
однажды, когда я после завтрака раскладывал пасьянс, пришла из другой
комнаты с "Московскими Ведомостями" в руках и сказала: "Посмотрите, Аф. Аф.,
какой чудесный и недорогой дом продается в Москве на Плющихе!"
Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в
городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни
о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее
выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она
мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как к пробке
пришпиливают разноцветную бабочку.
<...> Начиная с 1-го октября 81 г., мы ежегодно стали проводить зиму в
Москве на Плющихе, и для нас великою отрадою был переезд семьи Толстых на
зиму в Москву.
<...> В марте {187}, по возвращении в Воробьевку, я усердно задался
мыслью завершить полный перевод Горация и представить его на общий суд.
Зная по опыту трудность, встречаемую при переводах классиков, я просил
моего доброго московского знакомого поискать для меня на лето после
экзаменов за известное вознаграждение хорошего студента-филолога, способного
делать справки по мере надобности и моему указанию. На это мой приятель
ответил, что такого студента он не знает, но что, когда он стал об этом
говорить между своими товарищами учителями гимназии, один из них,
преподаватель латинской словесности, немец Максим Германович Киндлер
вызвался без всякого вознаграждения приехать ко мне по окончании экзаменов,
чтобы работать вместе над Горацием.
"Боже, - подумал я, - какой пример для наших специалистов!"
Добродушный, трудолюбивый, одноцентренный Максим Германович оказался
идеалом специалиста. При 2-х месячном ежедневном совместном труде поневоле
пришлось близко ознакомиться с этим, у нас почти не существующим типом.
Не встречая в мире ничего, видимо, выступающего из вековечных границ
причинности, он считал всякую мысль о невещественном для себя неподсудной и
бесплодной, и потому прямо говорил: "Я этого совершенно не знаю и навсегда
оставил об этом думать". Будучи своею специальностью указан на мастерскую
форму древних писателей, у которых она, как у черепокожных, выставляет свой
костяк наружу как основную и существеннейшую свою часть, - Киндлер тонко
понимал виртуозный выбор древними отдельных выражений. Но о том, чего не
встречается в древних поэтах, он тоже не имел никакого понятия. Того тайного
смятения, того неопределенного подъема и стремления к неведомому, которым
полны корифеи христианского мира, начиная с Шекспира и Байрона и самого Гете
и кончая Гейне и Лермонтовым, - у древних не существовало, и надо быть на
этот счет весьма чувствительным, чтобы почувствовать зародыш этого веяния
(романтизма) у Проперция. Нельзя не заметить, что по отношению к нашему
русскому умственному вертограду так и хочется применить замечание, что самый
сладкий плод с червоточиной. Оглянитесь на знакомых русских служителей Апол-
лона, и вы убедитесь в справедливости моего замечания; но у Максима
Германовича не было никакой червоточины; для него Прусское государство, т.
е. Германская империя, была верхом совершенства: она вся состоит из
превосходно обученных и вооруженных солдат и переплетена подземными
телеграфными линиями, дающими при железных дорогах возможность задавить
первого врага массой вооруженной защиты. Там люди изучают древних ради их
образцового совершенства, а не ради чинов. Словом, с этих сторон Максим
Германович был неуязвим, и я старался избегать с ним разговоров о
несравненном величии Германской империи.
Зато наши занятия с самого дня приезда Киндлера установились наилучшим
образом. Комнату он занял наверху в одном коридоре, напротив входа в мою
половину. После утреннего кофе мы расходились по своим комнатам знакомиться
с данной сатирой Горация, причем он старался в подробностях приготовиться и
к следующей. Часам к 10-ти он приходил ко мне с Горацием в руке, а я начинал
сдавать ему экзамен по сатире, которую собирался переводить. Невзирая на
сильный немецкий акцент, Киндлер ознакомился с русским языком до полного
понимания всех его оттенков. Конечно, сдавая свой экзамен, я старался о
возможной близости моего перевода к подлиннику и, не находя в данную минуту
русского слова, вставлял немецкое. Выслушав мой перевод, Киндлер снова
уходил к себе и работал до 12-ти часов, т. е. до завтрака. После часовой
прогулки он снова уходил работать до 4 часов, ревностно готовя следующую
сатиру. К 4 часам я обыкновенно поджидал его прихода, чтобы прочесть ему те
30, 40 и даже 50 стихов, которые успел перевести за утро. Вот тут-то
начиналась беда. Максим Германович не признавал по отношению к нашему брату
никакой поэтической вольности. Licentia poetica {188} существует для древних
писателей; так она уж там в учебниках и прозывается, а про русских
стихотворцев там ничего не сказано. А потому в переводе надо искать не
приблизительного, а самого несомненного русского выражения. Иногда
отыскивание этих точных выражений доходило до зеленых кругов в глазах.
Однажды, в минуту невыносимого мучения, я не выдержал и сказал:
- Э, Максим Германович! право, это все равно!
Киндлер замолчал, но зато весь обед дулся и отворачивался от меня, как
от unartigen Buben {189}. Когда перед вечерним чаем он снова зашел ко мне, я
просил его извинить меня за необдуманные слова. "То-то, - отвечал Киндлер, -
я изумился: как может быть вам все равно то, что выходит из-под ваших рук".
Тем не менее добросовестная критика Киндлера в отдельных случаях
переступала надлежащую границу. Мои друзья знают, до какой степени я дорожу
всеми указаниями на мои промахи и несовершенства; но на известной степени я
остаюсь при своем мнении. Вот на этой-то точке Киндлер иногда вступал со
мною в спор и, что замечательно, никогда ни разу по поводу латинских
выражений, а по поводу русских. Изучивши литературную речь, он незнаком был
с народною и вдруг при каком-либо обороте утверждал, что так нельзя сказать
по-русски. Как бы то ни было, мы тщательно пересмотрели с Киндлером всего
Горация и расстались наилучшими друзьями {190}.
<...> Хотя при дальнейших моих переводах древних поэтов судьба не
посылала мне снова такого специального сотрудника, каким был Киндлер, тем не
менее мне приходится усердно благодарить людей, радовавших меня своим
посещением Воробьевки, или же протягивавших руку помощи в моих работах. В
самом деле, неудивительно ли, что, начиная с Аполлона Григорьева, я
постоянно находил людей, бескорыстно жертвовавших в мою пользу своими
досугами? Такими являлись: Федор Евгеньевич Корш, с которым мы проследили
всего Ювенала, Овидиёвы "Превращения", Катулла и половину Проперция; Ник.
Ник. Страхов, с которым я перечитывал Тибулла и Проперция; Влад. Серг.
Соловьев, исполнивший перевод 7-й, 9-й и 10-й книг "Энеиды" Вергилия; Д. И.
Нагуевский, снабдивший этот перевод введением и примечаниями; и наконец гр.
Ал. В. Олсуфьев, с которым мы просматривали 2-ю часть Проперция и в
настоящее время усердно трудимся над переводом такого талантливого
капризника, как Марциал. Разве возможно без глубокой признательности
помянуть все эти имена? {191}.
<...> В августе того же 1883 года мы узнали о смерти долго томившегося
Тургенева. Хотя посещавшие его перед смертью люди рассказывали о
стеснительных условиях, в которых он находился в последнее время, но так как
все эти сведения получались из вторых рук, а я говорю только о несомненно
мне известном, то скажу только, что высказываемая им когда-то мечта о
женском каблуке, нагнетающем его затылок лицом в грязь, сбылась в переносном
значении в самом блистательном виде.
Чтобы спасти для России хотя клочок значительного достояния Тургенева,
ушедшего за границу, я не преминул объяснить моей племяннице Галаховой ее
наследственных прав на Спасское {192}.
Когда летом 84 г. Петруша снова прибыл в отпуск, я спросил его, почему
он, прослуживши вместо полугодичного срока почти год, не выходит в отставку?
Он отвечал, что готовится из военных наук, для того чтобы в Петербурге
держать экзамен на офицера. Выше я говорил об отношениях покойного И. П.
Борисова, а через него и Петруши к нашему общему земляку И. П. Новосильцову.
Когда в последнее наше свидание я стал жаловаться Новосильцову на странные
выходки Петруши, заставляющие опасаться душевного расстройства, - Иван
Петрович воскликнул: "Какой вздор! Пришли его ко мне, я его разбраню и
подтяну хорошенько, и все пойдет прекрасно".
Мнимо готовясь к офицерскому экзамену, Борисов бывал в Петербурге у
Новосильцова, который был к нему бесконечно добр и любезен. В обществе
Борисов держал себя безукоризненно; но я в душе мало доверял этой
сдержанности.
Однажды, в начале 1885 года, я получил из Петербурга следующую
телеграмму:
"Петя болен; разбил у меня окно. Что делать? Новосильцов".
Я отвечал: "Отправить к доктору". Таким образом он был помещен в
лечебницу св. Николая, а я назначен опекуном к нему и к его имению.
Два года затем я томился мыслью, что, быть может, несчастный больной не
пользуется удобствами, на какие мог бы рассчитывать по своим средствам.
Вследствие этого я искал, расспрашивал подходящего частного заведения,
и выбор мой остановился на прекрасной частной лечебнице, по соседству от
нашего дома на Плющихе, на хорошо знакомом мне месте дома покойного М. П.
Погодина. Оставалось только перевезти больного из Петербурга в Москву,
добившись формального увольнения его из больницы. В Петербурге я обратился
за советом к тамошнему старожилу, шурину своему М. П. Боткину, который
тотчас же объявил, что состоит попечителем больницы св. Николая и немедля
готов исполнить мое желание, хотя не может уяснить себе, с какою целью я
задумал перемещение больного, материальные условия жизни которого не
оставляют желать ничего лучшего. В этом Боткин предложил мне лично
удостовериться тотчас же, переехав с ним в лодке через Неву, на левом берегу
которой, прямо против его дома, стоит больница св. Николая. В конторе
больницы старший доктор, услыхав о моем желании видеть больного, провел нас
в большую, светлую и прекрасную комнату, занимаемую Борисовым. На кровати,
стоящей посреди комнаты, я увидал больного в прекрасном сером халате,
сидящим с опущенною на руки и понуренною головой. Когда доктор остановился
против больного, имея Боткина по правую, а меня по левую руку, Борисов не
обратил на нас ни малейшего внимания и что-то бормотал, причем доктор
сказал: "Читает наизусть латинские стихи".
- Петр Иванович, - сказал доктор, - посмотрите, кто к вам пришел.
При этих словах больной повернул голову налево и, узнав Боткина, слегка
улыбнулся и снова понурил голову.
- Петр Иванович, да вы посмотрите направо, - сказал доктор.
Больной поднял голову, и глаза его вспыхнули огнем восторга.
- Дядя Афоня! - крикнул он. Но это был один момент: луч восторга,
засиявший в глазах его, видимо, погасал, и, понуря голову, он снова сел на
прежнее место, с которого было порывисто вскочил.
Убедившись в превосходном уходе за моим больным, я отказался от мысли
перевозить его в Москву.
В январе 1886 года Киндлер приехал нас поздравить с Новым годом в
качестве уже окружного инспектора, а когда в начале марта мы собрались в
деревню, то услыхали, что он захворал, как оказалось впоследствии, черною
оспой, от которой и умер в полном расцвете сил.
Только на днях из несомненного источника я услыхал подробности его
смерти. Узнавши, что заболел черною оспой, он перерезал себе горло бритвой;
но в госпитале, куда его отправили, черная оспа прошла, а между тем он умер
от нанесенной себе раны. Психический мотив этого поступка остался для меня
тайной.
В декабре 1887 г. я ездил в Петербург по весьма неприятной тяжбе,
свалившейся на меня, как снег на голову, как бы в подтверждение французской
пословицы: "qui terre a, guerre а" {193}.
И на этот раз наш общий с Полонским приятель, Н. Н. Страхов, снова стал
передавать мне сетования Полонского на то, что я, бывая в Петербурге, не
только по-прежнему не навещаю его, но даже не бываю по пятницам, на которых
бывают все его приятели. Передав Страхову о черной кошке между мною и
Тургеневым, пробежавшей по поводу письма Полонского, я просил Ник. Ник.
объяснить Полонскому, что мне неловко с оскорблением в душе по-прежнему
чистосердечно жать ему руку. Последовало со стороны Полонского объяснение,
что никогда он не писал слов в приписанном им Тургеневым смысле {194}. При
этом Яков Петрович сказал: "Впрочем, я мог бы много с своей стороны
выставить таких тургеневских выходок".
Я не полюбопытствовал спросить, - каких; и сердечно радуюсь
восстановлению дружеских отношений с человеком, на которого с
университетской скамьи привык смотреть, как на брата.
Между тем в Борисовской Ольховатке пришлось энергически приступить к
перестройке усадьбы, которая по причине ветхости не могла служить своим
целям, а 25 марта 1888 г. пришла телеграмма о кончине Пети.
Мих. Петр. Боткин, взявший на себя хлопоты похорон Борисова, писал:
"Смерть сняла с него все, наложенное на его черты недугом: в гробу
лежал прекрасный интеллигентный юноша".
Приходилось развязывать узел опеки, и по вскрытии духовной Борисова
оказалось, что он все свое состояние завещал мне.
Мне бы следовало закончить свои воспоминания юбилейными днями 28 и 29
января 1889 года {195}. Но об этом так много было говорено в разных
изданиях, что я не надеюсь сообщить по этому случаю что-либо новое читателю,
который и без того может счесть мои воспоминания слишком подробными.
|