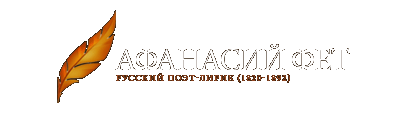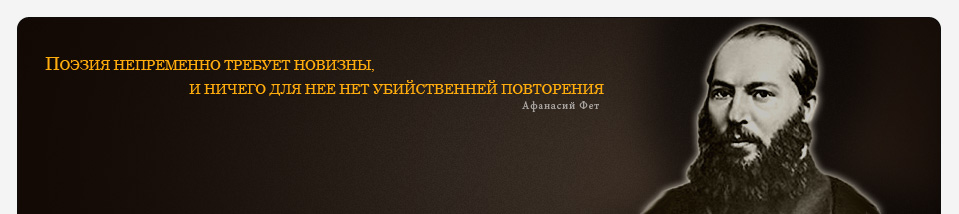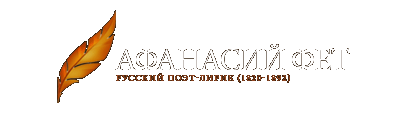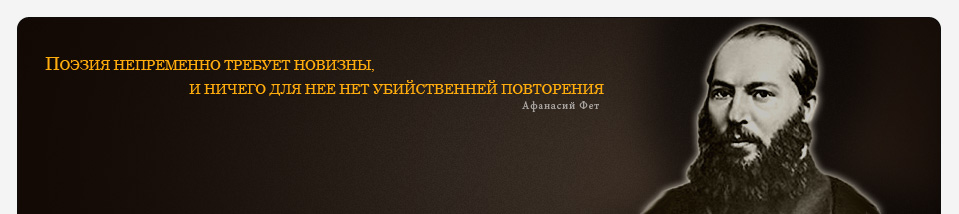|
А. А. Фет - Ранние годы моей жизни- часть 3
На другой день мы были уже в кибитке и через Петербург доехали в
Москву. Здесь, по совету Новосильцова, я отдан был для приготовления к
университету к профессору Московского университета, знаменитому историку М.
П. Погодину {31}.
В назначенный час я явился к Погодину,
Вместо всякого экзамена Михаил Петрович вынес мне Тацита и, снабдив
пером и бумагой, заставил в комнате, - ведущей к нему в кабинет, перевести
страницу без пособия лексикона. Не знаю, в какой степени удовлетворительно
исполнил я свою задачу; полагаю даже, что почтенный Михаил Петрович и не
проверял моего перевода по оригиналу, но на другой день я вполне устроился в
отдельном левом флигеле его дома.
Помещение мое состояло из передней и комнаты, выходящей задним окном на
Девичье поле, Товарищем моим по комнате оказалcя некто Чистяков, выдержавший
осенью экзамен в университет, но не допущенный в число студентов на том
основании, что одноклассники его по гимназии, из которой он вышел, еще не
окончили курса. Таким образом, жалуясь на судьбу, Чистяков снова принялся за
Цицерона, "Энеиду" и исторические тетрадки Ивана Дмитр. Беляева, которого
погодинские школьники прозывали "хромбесом" (он был хром), в отличие от
латинского учителя Беляева, который прозывался "черненьким".
Когда последний в виде экзамена развернул Передо мною наудачу "Энеиду",
и я, не читая по-латыни, стал переводить ее по-русски, он закрыл книгу и
поклонившись сказал: "Я не могу вам давать латинских уроков". И
действительно, с той поры до поступления в университет я не брал латинской
книги в руки. Равным образом для меня было совершенно бесполезно
присутствовать на уроках математики, даваемых некоим магистром Хилковым
школьникам, проживавшим в самом доме Погодина и состоявшим в ведении
надзирателя немца Рудольфа Ивановича, обанкрутившегося золотых дел мастера.
Рудольф Иванович к нам с Чистяковым вхож не был; но и у своих шаловливых и
задорных учеников не пользовался особым вниманием и почетом.
Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком учеников,
составлявших Погодинскую школу, в которой продовольственною частью
занималась старуха мать Погодина, Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней
бережливостью...
-----
<...> Не одним примером долбления служил для меня, провинциального
затворника, бывалый в своем роде Чистяков. При его помощи я скоро
познакомился в Зубовском трактире с цыганским хором, где я увлекся красивою
цыганкой. Заметив, что у меня водятся карманные деньжонки, цыгане заставляли
меня платить им за песни и угощать их то тем, то другим. Такое увлечение
привело меня не только к растрате всех наличных денег, но и к распродаже
всего излишнего платья, начиная с енотовой шубки до фрачной пары. При этом
дело иногда не обходилось без пьянства почти до бесчувствия. Надо сказать,
что окно наше было окружено с обеих сторон колоннами, опиравшимися на
высокий каменный цоколь, подымавшийся аршина на два с половиною от земли.
Окно с вечера запиралось ставнями с Девичьего поля. Выходить ночью из нашего
флигеля можно было не иначе, как по стеклянной галерее дома через парадную
дверь. Подымать подобный шум, тем более летом, было немыслимо, так как Мих.
Петр., работая в кабинете нередко за полночь, оставлял дверь на балкон
отпертою и по временам выходил на свежий воздух. Поэтому мы, тихонько
раскрыв свое окно и прикрывши отверстие снаружи ставнем, спрыгивали с цоколя
на Девичье поле к подговоренному заранее извозчику, который и вез нас до
трактира <...>
...перед самым вступительным экзаменом вошел прихрамывая человек
высокого роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: "Господа,
честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский"
{32}.
Оказалось, что он чуть ли не исключенный за непохвальное поведение из
Троицкой духовной академии, недавно вышел из больницы и, не зная, что
начать, обратился с предложением услуг к Погодину. Михаил Петрович,
обрадовавшись сходному по цене учителю, пригласил его остаться у него и
помог перейти без экзаменов на словесный факультет. Не только в тогдашней
действительности, но и теперь в воспоминании не могу достаточно надивиться
на этого человека. Не помню в жизни более блистательного образчика схоласта.
Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и
софизмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей ловкостью.
Познакомившись со Введенским хорошо, я убедился, что он в сущности знал
только одно слово: "хочу"; но что во всю жизнь ему даже не приходил вопрос,
хорошо ли, законно ли его хотенье. Так, первым рассказом его было, как он
довел до слез в больнице сердобольную барыню, пришедшую к нему в комнату
после пасхальной заутрени поздравить его со словами: "Христос воскрес!".
"Вместо обычного "воистину воскрес", - говорил Введенский, - я сказал ей:
"Покорно вас благодарю". Озадаченная сердобольная назвала меня безбожником.
"Не я безбожник, отвечал я, а вы безбожница. У вас не только нет бога, но вы
даже не имеете о нем никакого понятия. Позвольте вас спросить, что вы
подразумеваете под именем бога?" - Конечно, я хохотал над всеми нелепостями,
которые она по этому вопросу начала бормотать и, убедившись, вероятно, в
полном своем неведении, разревелась до истерики".
И по переходе в университет Введенский никогда не ходил на лекции. Да и
трудно себе представить, что мог бы он на них почерпнуть. По-латыни
Введенский писал и говорил так же легко, как и по-русски, и хотя выговаривал
новейшие языки до неузнаваемости, писал по-немецки, по-французски,
по-английски и по-итальянски в совершенстве. Генеалогию и хронологию
всемирной и русской истории помнил в изумительных подробностях. Вскоре он
перешел в наш флигель...
-----
- Михаил Петрович, - сказал я, входя, за несколько дней до
вступительных экзаменов в университет, к Погодину, - не зная ничего о
формальных порядках, прошу вашего совета касательно последовательных мер для
поступления в университет.
- И прекрасно делаете, почтеннейший. Идешь, надо узнать, к кому
обратиться в университете: к сторожу или к его жене. А какой факультет?
- На юридический.
- Ну хорошо, я там секретарю скажу, а вы обратитесь к нему, и он вам
все сделает.
Начались экзамены. Получить у священника протоиерея Терновского хороший
балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости Новосельских
семинаристов был весьма силен в катехизисе {33} и получил пять. Каково было
мое изумление, когда на латинском экзамене, в присутствии главного латиниста
Крюкова {34} и декана Давыдова {35}, профессор Клин подал мне для перевода
Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая
латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом.
Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о
Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому
морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход.
Из математики я, к счастию, услыхал от добрых людей, что Дмитрий
Матвеевич Перевощиков, спрашивая у экзаменующегося! "Что вы знаете?" -
терпеть не мог утвердительных ответов и тотчас же доказывал объявившемуся
знающим хотя бы четыре первых правила, что он ничего не знает.
Предупрежденный, я сказал, что проходил до таких-то пределов и, удачно
разрешив в голове задачу, получил четверку.
Таким образом, поступление мое в университет оказалось блестящим, и я
до того возгордился, что написал Крюммеру самохвальное письмо. В последний
день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук,
объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не
менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для
научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением
офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал. Независимо от того, что все
семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время
давал потомственное дворянство, и я не раз слыхал от отца, по поводу
какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: "Мне дела нет до их
выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин".
В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки все
более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу,
на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем. И вот не прошло двух
недель, как я появился у Погодина в кабинете со следующей речью}
- Михаил Петрович, не откажите еще раз в вашей помощи. Я ненавижу
законы и не желаю оставаться на юридическом факультете, а потому помогите
мне перейти на словесный.
- Вот, вот, подумаешь, у теперешней молодежи какие разговоры! Ненавижу
законы! Что ж вы, почтеннейший, беззаконник, что ли? Ведь на словесный
факультет надо додерживать экзамен из греческого.
- Буду держать, Михаил Петрович.
- Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без
имени. Я, почтеннейший, студентов у себя в доме не держу, но для вас делаю
исключение до Нового года.
Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую
страницу "Одиссеи", хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил
на словесный факультет.
Когда минула горячая пора экзаменов, и Введенский надел тоже
студенческий мундир, мы трое стали чаще сходиться по вечерам к моему или
медюковскому {36} самовару. Заметив, вероятно, энтузиазм, с которым
добродушный и сирый юноша вспоминал о своем воспитателе Ганзиере,
прямолинейный Введенский не отказывал себе в удовольствии продернуть бедного
Медюкова, сильно отдававшего польским духом.
- Позвольте, господа, - восклицал Введенский, - чтобы правильнее
относиться к делу, следует понять, что Ганзиер миф. Для каждого понимающего,
что такое миф, несомненно, что когда идет дело о русском юноше, получающем
образование через сближение с иностранцами, то невольно возникает образ
Ганзы, сообщившей нашим непочатым предкам свое образование. Во избежание
некоторой сложности такого представления, миф уловляет тождественными
звуками нужное ему олицетворение, и появляется Ганзиер миф.
Надо было видеть, до какой степени оскорбляло Медюкова такое отношение
к его воспитателю. Он кипятился, выходил из себя и, наконец, со слезами
просил не говорить этого. Таким образом миф Ганзиер был оставлен в покое.
Никогда с тех пор не приводилось мне видеть такого холодного и
прямолинейного софиста, каким был наш Иринарх Иванович Введенский.
Оглядываясь в настоящее время на эту личность, я могу сказать, что это
был тип идеального нигилиста. Ни в политическом, ни в социальном отношении
он ничего не желал, кроме денег, для немедленного удовлетворения мгновенных
прихотей, выражавшихся в самых примитивных формах. Едва ли он различал
непосредственным чувством должное от недолжного.
Во всем, что называется убеждением, он представлял белую страницу, но в
умственном отношении это была машина для выделки софизмов, наподобие
специальных машин для шитья или вязанья чулок.
- Позвольте, - говорил он, услыхав самую несомненную вещь, - такое
убеждение требует доказательств; а их в данном случае не только нет, но есть
множество в пользу противоположного.
Но и при такой прямолинейности возможны, не скажу, страсти, а минутные
увлечения. Так, нескольких лишних рюмок водки или хересу было достаточно,
чтобы Введенский признался нам в любви, которую питает к дочери троицкого
полицмейстера Засицкого, за которою ухаживает какой-то более поощряемый
офицер.
Однажды он даже прочел мне письмо, написанное им к разборчивой матери
девушки, в котором он два пола сравнивал с двумя половинками разрезанного
яблока.
В настоящую минуту мне ясно, до какой степени это сухое и сочиненное
сравнение обличало головной характер его отношений к делу. Под влиянием
неудачи он вдруг неведомо отчего приступил ко мне с просьбой написать
сатирические стихи на совершенно неизвестную мне личность офицера,
ухаживающего за предметом его страсти.
Несколько дней мучился я неподсильною задачей и наконец разразился
сатирой, которая, если бы сохранилась, прежде всего способна бы была
пристыдить автора; но не так взглянул на дело Введенский и сказал: "Вы
несомненный поэт, и вам надо писать стихи". И вот жребий был брошен.
С этого дня, вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти
ежедневно писал новые стихи, все более и более заслуживающие одобрения
Введенского.
<...> Но судьбе угодно было с дороги мертвящей софистики перевести меня
на противоположную стезю беззаветного энтузиазма.
Познакомившись в университете, по совету Ив. Дм. Беляева, с
одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым {37}, я однажды решился
поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.
Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке
находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей
от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и
мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это
время ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье
старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они
его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что
Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно
мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали
друг другу вновь написанное стихотворение.
Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку {38}, и их набралось уже
до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали
поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина,
я упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном, причем они
согласились бы на самое умеренное вознаграждение.
Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на
антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды,
всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу.
Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти,
хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы
даже друг другу не поклонились.
О своих университетских занятиях в то время совестно вспомнить. Ни один
из профессоров, за исключением декана Ив. Ив. Давыдова, читавшего эстетику,
не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции,
я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы
не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все
увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за
приговором моему эстетическому стремлению.
- Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, - сказал Погодин, - он
в этом случае лучший судья.
Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: "Гоголь
сказал, это несомненное дарование".
-----
Однажды, когда, пуская дым из длиннейшего гордового чубука, я читал
какой-то глупейший роман, дверь отворилась и на пороге совершенно неожиданно
появился отец в медвежьей шубе. Зная от меня, как враждебно смотрит отец мой
на куренье табаку, не куривший Введенский, услыхав о приезде отца, вбежал в
комнату и сказал: "Извини, что помешал, но я забыл у тебя свою трубку и
табак".
Эта явная ложь до того не понравилась отцу, что он впоследствии не
иначе говорил о Введенском, как называя его "соловьем-разбойником" <....> -
- Ты говорил мне, - сказал он, - о семействе ^Григорьевых. Поедем к ним. Я
очень рад познакомиться с хорошими людьми. Да и тебе, по правде-то сказать,
было бы гораздо полезнее попасть под влияние таких людей вместо общества
"соловья-разбойника".
И при этом отец не преминул прочитать наизусть один из немногих стихов,
удержавшихся в его памяти вследствие их назидательности:
"Простой цветочек дикий
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой.
И что же? От нее душистым стал и сам.
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам".
У Григорьевых взаимное впечатление отцов наших оказалось самым
благоприятным. Старик Григорьев сумел придать себе степенный и значительный
тон, упоминая имена своих значительных товарищей по дворянскому пансиону.
Что же касается до моего отца, то напускать на себя серьезность и
сдержанность ему никакой надобности не предстояло.
Мать Григорьева Татьяна Андреевна, скелетоподобная старушка, поневоле
показалась отцу солидною и сдержанной, так как при незнакомых она
воздерживалась от всякого рода суждений. Мой товарищ Аполлон не мог в то
время кому бы то ни было не понравиться. Это был образец скромности и
сдержанности. Конечно, родители не преминули блеснуть его действительно
прекрасной игрой на рояле.
Пока мы с Аполлоном ходили осматривать антресоли, где нам предстояло
поместиться, родители переговорили об условиях моего помещения на полном со
стороны Григорьевых содержании. В виду зимних и продолжительных летних
вакаций, годовая плата была установлена в 300 рублей.
На другой день утром Илья Афанасьевич перевез немногочисленное мое
имущество из погодинского флигеля к Григорьевым, а я, проводивши отца до
зимней повозки, отправился к Григорьевым на новоселье {39}.
-----
Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного
подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то же время и помещением
для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как
большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной
стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная
гостиная с окнами на улицу, и далее по другую сторону дома столовая, затем
коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору
была хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево
из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все
помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с
двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, раз-
деленные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной
перегородке, в качестве небольших спален. Впоследствии я узнал, что в правом
отделении, занятом мною, долго проживал дядька француз, тогда как молодой
Аполлон Александрович жил в отделении налево, которое занимал и в настоящее
время. Француз кончил свою карьеру у Григорьевых, по рассказам Александра
Ивановича, тем, что за год до поступления Аполлона в университет напился на
святой до того, что, не различая лестницы, слетел вниз по всем ступенькам.
Рассказывая об этом, Александр Иванович прибавлял: "Снисшел еси в присподняя
земли".
Для меня следом многолетнего пребывания француза являлось превосходное
знание Аполлоном французского языка, с одной стороны, и с другой -
бесcмысленное повторение пьяным поваром Игнатом французских слов, которых он
наслышался, прислуживая гувернеру.
- Коман ву порте ву? Вуй мосье. Пран дю те ю.
Ал. Ив. Григорьев и родной брат его Николай Иванович родились в семье
владимирского помещика; но поступя на службу, отказались от небольшого
имения в пользу преклонной матери и двух, если не трех, сестер, старых
девиц. Николай Иванович служил в каком-то пехотном полку, а Александра
Ивановича я застал секретарем в московском магистрате. Жалованье его,
конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже
и приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если
не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности.
Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда
даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых
держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил.
По затруднительности тогдашних путей сообщения, Григорьевы могли
снабжать мать и сестер только вещами, не подвергающимися порче, но зато
последними к праздникам не скупились. К святой или по просухе через знакомых
подрядчиков высылался матери годовой запас чаю, кофею и красного товару.
В шестилетнее пребывание мое в доме Григорьевых я успел лично
познакомиться с гостившими у них матерью и сестрами.
Но о холостой жизни Александра Ивановича и женитьбе его на Татьяне
Андреевне я мог составить только отрывочные понятия из слов дебелой жены
повара Лукерьи, приходившей в отсутствие Григорьевых, отца и сына, наверх
убирать комнаты и ненавидевшей свою госпожу до крайности. От Лукерьи я
слыхал, что служивший первоначально в сенате Александр Иванович увлекся
дочерью кучера и, вследствие препятствия со стороны своих родителей к браку,
предался сильному пьянству. Вследствие этого он потерял место в сенате и,
прижив с возлюбленною сына Аполлона, был поставлен в необходимость
обвенчаться с предметом своей страсти. Когда я зазнал Алекс. Ив., он не брал
в рот капли горячительных напитков. Так как, верный привычке не посещать
лекций, я оставался дома, то, проходя зачем-либо внизу, не раз слыхивал, как
Татьяна Андреевна громким шепотом читала старинные романы, вроде "Постоялый
двор", и, слыша шипящие звуки: "по-слее-воос-хоож-деее-ни-яяя солн-цааа", я
убедился, что грамота нашей барыне не далась, и что о чтении писанного у нее
не могло быть и речи. Тем не менее голос ее был в доме решающим, едва ли во
многих отношениях не с большим правом, чем голос самого старика. Осуждать
всегда легко, но видеть и понимать далеко не легко. А так как дом
Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я, то позволю себе
остановиться на некоторых подробностях в надежде, что они и мне и читателю
помогут разъяснить полное мое перерождение из бессознательного в более
сознательное существо. Добродушный и шутливый по природе, Александр Иванович
был человек совершенно беспечный. Это основное качество он передал и сыну. Я
нередко присутствовал при незначительных наставлениях матери сыну, но
никогда не слыхал, чтобы она наставляла своего мужа. Тем не менее
чувствовалось в воздухе, что тот заматерелый догматизм, под которым жил весь
дом, исходил от Татьяны Андреевны, а не от Александра Ивановича, который по
рефлексии догматически и беззаветно подчинялся своей жене.
Утром в 7 1/2 часов летом и зимой, когда я еще валялся на кровати,
Аполлон, или, как родители его называли, Полошенька, вскакивал с кровати,
одевался и бежал в залу к рояли, чтобы звуками какой-либо сонаты будить
родителей. В 8 часов отец, до половины одетый, но в теплой фуфайке и ермолке
на обнаженной голове, выходил вместе с женой, одетою в капот и неизменный
чепчик с оборкою, в столовую к готовому самовару. Там небольшая семья пила
чай, присылая мне мою кружку наверх. Затем Александр Иванович, наполнив
свежестертым табаком круглую табакерку, шел в спальню переменить ермолку на
рыжеватый, деревянным маслом подправленный, парик и, надев форменный фрак,
поджидал Аполлона, который в свою очередь в студенческом сюртуке и фуражке
бежал пешком за отцом через оба каменных моста и Александровский сад до
Манежа, где Аполлон сворачивал в университет, а отец продолжал путь до
присутственных мест. К двум часам обыкновенно кучер Василий выезжал за
Аполлоном, а старик большею частию возвращался домой пешком. В три часа мы
все четверо сходились внизу в столовой за сытным обедом. После обеда старики
отправлялись вздремнуть, а мы наверх - предаваться своим обычным занятиям,
состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций или в чтении,
а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим
побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти
хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд. В 8 часов мы снова
нередко сходили чай пить и затем уже возвращались в свои антресоли до
следующего утра. Так, за исключением праздничных дней, в которые Аполлон шел
с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями без малейших
изменений.
Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две такие
противоположные личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло
самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов. Я знал и
чувствовал, до какой степени Григорьев, среди стеснительной догматики
домашней жизни, дорожил каждою свободною минутой для занятий; а между тем я
всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще
в Верро и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей
жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе
свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при
этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник
лишается всякой возможности защиты. При таких отношениях надо было бы
ожидать между нами враждебных чувств, но в сущности было наоборот. Я от души
любил свою жертву, а Аполлон своего мучителя, и если слово "воспитание" не
пустой звук, то наше сожительство лучше всего можно сравнить с точением
одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получат совершенно
различное значение.
Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться
всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену
{41}.
Начать с того, что Александр Иванович сам склонен был к стихотворству и
написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но
Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской
музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах
под названием: "Вадим Нижегородский". Помню, как, надев шлафрок на опашку,
вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался
на пол, восклицая:
"О, земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному".
Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее
пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас
почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:
"Григорьев, музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! - мой Вадим".
Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по
случаю отсутствия в нем поэтического таланта.
"Я не поэт, о боже мой!" - восклицал он.
"Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито надсмехались
Судьба и люди надо мной?"
По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим
стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного
поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости
после, моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была
тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона. Бывали случаи, когда мое
вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя
за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг
друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для
постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними
знакомое ощущение.
- Помилуй, братец, - восклицал Аполлон, - чего стоит эта печка, этот
стол с нагоревшей свечею, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть
надо!
И вот появилось мое стихотворение
"Не ворчи, мой кот мурлыка..."
долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова
арфа.
Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение "Кот
поет, глаза прищуря", над которым он только восклицал: - Боже мой, какой
счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!
Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при
нашей встрече я застал его погруженным в "Notre Dame de Paris" {42} и драмы
Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее
обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам
перевел "Озеро" Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать
Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел
Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны
Иоановны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда
после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении
книжки стихов Бенедиктова {43}, я побежал в лавку за этой книжкой?!
- Что стоит Бенедиктов? - спросил я приказчика.
- Пять рублей, - да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.
Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с
Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь
байроновскофранцузскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не
только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете.
Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное
образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать
немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон
редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать фило-
софские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое
московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе,
составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих
беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть
Аполлон Григорьев. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело
в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных
антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества.
Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету,
зять помощника попечителя Голохвастова Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый,
остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящем в высокий фальцет, он
утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы,
казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника.
Приходил постоянно записывающий лекции и находивший еще время давать уроки
будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был
чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал
меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь
Влад. Ал. Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед
нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю,
ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших
комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни
малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и
общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?
- Позвольте, господа, - восклицал добродушный Н. М. О-в, - доказать вам
бытие божие математическим путем. Это неопровержимо.
Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих
доказательств.
- Конечно, - кричал светский и юркий Жихарев, - Полонский несомненный
талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической
личности, как Кастарев:
Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.
- Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.
- Натянутость мысли, - говорит прихихикивая Черкасский, - не всегда
бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное
качество.
- Это противоположное, - пищит своим фальцетом Новосильцев, - имеет
несколько степеней: il у а des sots simples, des sots graves et des sots
superfins {44}.
Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших
несомненный и оригинальный талант Полонского {45}. Я любил встречать его у
нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как
надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище
он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии
товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил,
сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет
в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.
Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в
особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не
помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий
Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант
одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов
юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем
окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:
"Как часто внимая их песням разгульным, Один я меж всеми молчу, Как
часто, внимая словам богохульным, Тихонько молиться хочу".
Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром
мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев
был записан слушателем, и в числе других был причиной неоднократно
повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели
и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что
какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах
властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон
был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, им ли было
написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? Оно
так хорошо, прибавил граф, что я усомнился, чтобы оно было писано студентом,
и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: "vous faites trop parler de
vous; il faut vous effacer" {46}.
Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым
в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан
Никита Иванович Крылов, - недавно женившийся на красавице Люб. Фед. Корш,
выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай.
Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в
воскресенье вернулся обвороженный любезностью хозяйки и ее матери,
приезжавшей на вечер с двумя дочерьми.
Аполлон рассказывал мне, что вдова генеральша Корш целый вечер
толковала с ним о Жорж Занд, и, к великому его изумлению, говорила наизусть
мои стихи, а в довершение просила привести меня и представить ей. Мы оба не
раскаялись, что воспользовались любезным приглашением.
45-летняя вдова была второю женою покойного заслуженного доктора Корша
и, несмотря на крайнюю ограниченность средств, умела придать своей гостиной
и двум молодым дочерям, Антонине и Лидии, совершенно приличный, чтобы не
сказать изящный вид. Я не видал их никогда иначе, как в белых полубальных
платьях. Иногда на вечера к матери приезжала старшая ее дочь, можно сказать,
идеальная красавица Куманина. Идеалом всех этих дам была Консвелло Жорж
Занд, и все их симпатии, по крайней мере на словах, склонялись в эту
сторону. В скором времени за вечерним чаем у них мы стали встречать Конст.
Дм. Кавелина, который, состоя едва ли уже не на 4-м курсе, видимо
интересовался обществом молодых девушек. Надо сказать правду, что хотя
меньшая далеко уступала старшей в выражении какой-то воздушной грации и к
тому же, торопясь высказать мысль, нередко заикалась, но обе они, прекрасно
владея новейшими языками, отчасти музыкой и, при известном свободомыслии,
хорошими манерами, могли для молодых людей быть привлекательными.
Не берусь определить времени, когда нам стало известным, что старшая
Антонина дала слово выйти за Кавелина.
Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были
чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать
развитию сына. В этом случае первое место занимал Большой и Малый
(французский) театры. Хотя мы нередко наслаждались с Григорьевым изящною и
тонкою игрой французов, но главным источником наслаждений был для нас
Большой театр с Мочаловым в драме, Ферзингом, Нейрейтер и Беком в опере. Что
сказать об игре Мочалова, о которой так много было говорено и писано в свое
время? Не одни мы с Григорьевым, сидя рядом, подпадали под власть
очарователя, заставлявшего своим язвительным шепотом замирать весь театр
сверху донизу. При дальнейшем ходе воспоминаний придется рассказать, как
однажды я был изумлен наивным отношением Мочалова к произведениям литературы
вообще. В настоящую минуту, озираясь на Мочалова в Гамлете по преимуществу,
я не умею ничем другим объяснить магического действия его игры, кроме его
неспособности понимать Шекспира во всем его объеме. Понимать Шекспира или
даже одного Гамлета - дело далеко не легкое, и подобно тому, как виртуозу,
разыгрывающему музыкальную пиесу, невозможно сознательно брать каждую
отдельную ноту, а. достаточно понимать характер самой пиесы, так и чтецу нет
возможности сознательно подчеркивать каждое отдельное выражений, а
достаточно понимать общее содержание. Но в этом-то смысле я решаюсь
утверждать, что Мочалов совершенно не понимал Гамлета, - игрой которого так
прославился. Мочалов был по природе страстный, чуждый всякой рефлексии
человек. Эта страстность вынуждала его прибегать к охмеляющим напиткам, и
тут он был воплощением того, что Островский выразил словами: "не препятствуй
моему нраву". Поэтому он не играл роли необузданного человека: он был таким
и гордился этим в кругу своих приверженцев. Он не играл роли героя,
влюбленного в Офелию или в Веронику Орлову; он действительно был в нее
безумно влюблен. Он действительно считал себя героическим лицом, и когда
однажды, получив небольшое жалованье, давно ожидаемое нуждавшимся
семейством, он вышел из кассы, то на просьбу хромого инвалида, подавая все
деньги, сказал: "Выпей за здоровье Павла Степановича Мочалова". Однажды,
выпив под Донским монастырем с друзьями весь запас вина, он отправил к
настоятелю такую записку: "У Павла Степановича Мочалова нет более ни капли
вина, и он надеется на подкрепление из вашего благодатного погреба".
Говорили, что подкрепление прибыло. Итак, мне кажется, что Мочалов искал не
воспроизведения известного поэтического образа, а только наиболее удобного
случая показаться пред публикой во всю ширь своей духовной бесшабашности. Он
совершенно упускал из виду, что Гамлет слабое, нерешительное существо, на
плечи которого сверхъестественная сила взвалила неподсильное бремя и который
за постоянною рефлексией желает скрыть томящую его нерешительность; он не в
состоянии рассмотреть, что иронически-холодное отношение Гамлета к Офелии
явилось не вследствие какого-либо проступка со стороны последней, а
единственно потому, что, со времени рокового открытия, ему не до мелочей
женской любви. Он не понимал, что в решительные минуты слабый человек
высказывает вспыльчивость, которой может позавидовать любая энергия. Зато
сколько блистательных случаев представлял Гамлет Мочалову высказать
собственную необузданность! Какое дело, что язвительность иронии Гамлета
есть только проявление непосильного внутреннего страдания? Гамлет - Мочалов
не бежит от страдания в иронию, а напротив, всею силой предается ей, как
прирожденному элементу, и конечно, при таком условии нервы, зрителя
держись... Гамлет - Мочалов страстно любит свою Офелию и терзает ее от
избытка любви. Нечего разбирать, говорит ли мучительная ирония устами
Гамлета или действительное сумасшествие; но эта ирония--удобный случай
порывистому Мочалову высказать свое безумное недовольство окружающим миром.
И вот, помимо рокового конфликта случайных событий с психологическою
подкладкой основного характера, помимо, так сказать, вопроса "почему?" -
окончательные результаты этого конфликта выступают с такою силой, что
сокровеннейшая глубина аффекта внезапно развертывается пред нами:
"И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна" {47}
И действительно, зрителям становилось страшно... Когда Гамлет-Мочалов,
увидав дух своего отца, падает на колени и, стараясь скрыть свою голову
руками, трепетным голосом произносит: "Вы, ангелы святые, крылами своими
меня закройте", пред зрителем возникал самый момент появления духа, и
выразить охватывавшего нас с Аполлоном чувства нельзя было ничем иным, как
старанием причинить друг другу сильнейшую боль щипком или колотушкой. Было
бы слишком несправедливо приписывать нам с Григорьевым монополию потрясающих
впечатлений, уносимых из театра от игры Мочалова. Под власть этого
впечатления подпадали все зрители. Когда Мочалов своим змеиным шепотом, ясно
раздававшимся по всем ярусам, задерживал дыхание зрителей, никто и не думал
аплодировать: аплодисменты раздавались позднее, по мере общего отрезвления.
Что зрителям нужен был Мочалов, а не трагическое лицо, видно из того, что я
сам несколько лет спустя видел Мочалова играющим г Гамлета с костылем и тем
не менее вызывающим все то же воодушевление. Юноша, принц Гамлет на костыле
- не лучшее ли это подтверждение нашей мысли?
Ко времени, о котором я упоминаю только для связи рассказа, появился
весьма красивый и самонадеянный актер Славин; последний, желая блеснуть
общим образованием, издал книгу афоризмов, состоящую из бесспорных истин,
вроде: Шекспир велик, Шиллер вдохновенен и т. д. Наконец последовал его
бенефис в Гамлете, а затем и следующее стихотворение Дьякова:
"О ты, восьмое чудо света,
Кем опозорен сам Шекспир,
Кто изуродовал Гамлета,
Купцы зовут тебя в трактир.
Ступай, они тебя обнимут,
Как удальца, как молодца,
И дружно с окорока снимут
Гнилые лавры для венца -
Тебя украсить, подлеца".
Не один Мочалов оказался властителем наших с Григорьевым сердец: в не
меньший восторг приводила нас немецкая опера. Трудно в настоящую минуту
определить, кто из нас нащипывал восторг в другом; но я должен сказать, что
мы мало прислушивались к общественной молве и славе, и, наслаждаясь
сценическим искусством, увлекались не столько несомненным блеском таланта,
сколько кровью сердца, если позволено так выразиться. Так мы с наслаждением
слушали Роберта-Бека и оставались совершенно равнодушными к Голланду,
несколько запоздавшему со своею громадною репутацией из Петербурга; но
подобно тому, как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в
Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг {48}.
Когда он, бывало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его упавшую у
часовни в обморок Алису и высоко занесши правую руку, выражал восторг своей
близости к этой безупречной чистоте фразой: "du zarte Blume!" {49}, потрясая
театр самою низкою нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали
друг друга.
Говоря о московском театре того времени, не могу не упомянуть о
Щепкине, как великом толкователе Фамусова и героев гоголевских комедий, о
начинающем в то время Садовском и о любимце русской комедии - Живокини,
которого публика каждый раз, еще до появления из-за кулис, приветствовала
громом рукоплесканий. Зато, что же это был и за перл смешного! Хотя я
отлично познакомился с его лицом на сцене, но он гримировался так мастерски,
что иногда без афиши трудно было в "_Пилюлях_" узнать вчерашнего _Льва
Гурыча Синичкина_. Силу юмора Живокини мне пришлось испытать на себе при
следующих обстоятельствах.
Зашел я в трактир, так называемый "_Над железным_" (ныне Тестова),
съесть свою обычную порцию мозгов с горошком. Поджидая в отдельной комнате
полового, я стал на пороге в большую общую залу и увидал против себя за
столом у окна двух посетителей. В одном из них я узнал знакомого мне на под-
мостках Живокини и захотел воспользоваться случаем рассмотреть его при
дневном освещении, насколько возможно лучше и подробнее. Должно быть
вскинувший глаза Живокини в свою очередь заметил вперившего в него взор
студента. Лицо его мгновенно приняло такое безнадежно глупое выражение, что
я круто повернулся на каблуках и, разражаясь хохотом, влетел в свою комнату.
Тогда в балете безраздельно царила Санковская. Даже беспощадный
Ленский, осыпавший всех своими эпиграммами, говорил, что ее руки - ленты и
что удар ее носка в пол, в завершение прыжка, всепобеден.
С наступлением великого поста все бросилось готовиться к переходным
экзаменам. Принялся и я усердно за богословие Петра Матвеевича Терновского.
Достал я себе также и усыпительные лекции его брата, Ивана Матвеевича,
читавшего логику. При моем исконном знакомстве с катехизисом, мне нетрудно
было подготовиться из догматического богословия и я отвечал на четыре; но
если бы меня спросили из истории церкви, то я бы не ответил даже на единицу.
После счастливого экзамена по богословию, я в присутствии профессора
латинской словесности Крюкова, читавшего начиная со второго курса,
экзаменовался из логики и к несчастию вынул все три билета из второй
половины лекций, которой не успел прочитать. Услыхав на третьем билете мое:
"И на этот не могу ответить", он сказал: "А меня ваша четверка сильно
интересует, и я желал бы, чтобы вы перешли на второй курс. Не можете ли
чего-либо ответить по собственному соображению?" И когда я понес
невообразимый вздор, экзаменаторы переглянулись и тем не менее поставили мне
тройку. Любезные лекторы французского и немецкого языков поставили мне по
пятерке, а Погодин, по старой памяти, тоже поставил четверку из русской
истории. Таким образом я, к великой радости, перешел на второй курс.
На другой день по выдержании экзамена я, надев свежие лайковые
перчатки, обещал ямщику, везшему меня на перекладной, полтинник на водку,
если он меня промчит во весь дух мимо окон девиц Корш, которые, конечно,
только случайным и самым невероятным образом, могли видеть меня в таком
победоносном виде.
Помню, какое освежительно-радостное впечатление произвели на меня
зеленеющие поля и деревья, когда я выехал за заставу пыльной и грохочущей
Москвы на мягкую грунтовую дорогу (так как в то время даже
Московско-Курского шоссе еще не существовало). Но губительная медленность
почтовой тройки была слишком тяжела для счастливого студента, перешедшего на
следующий курс. Приходилось, во избежание скуки, во время пути предаваться
всевозможным мечтам, а на станциях тщательному пересмотру лубочных картин,
фельдмаршалов, топчущих под собою армии, и карандашных надписей по всем
дверям и оконным притолокам.
Видно, та же тоска, которая вынуждала меня читать подобные надписи,
вынуждала других писать их. Память сохранила мне одну из них, прочтенную на
окне подольской гостиницы. Начала стихотворения я не помню; это было
описание разнородных порывов, возникающих в душах путешественников; оно
заключалось словами:
"Так что некая проезжая девица
Не могла себя в том победить,
Не могла себя на месте усадить,
А бегала по коридору,
Аки перепелица".
В Туле, по крайней ограниченности денежных средств, я купил себе
пистонное ружье, но только одноствольное, помнится, не дороже 10 рублей.
Как выдержавший экзамены, я был принят и дома, и у дяди с большим
радушием. Еще зимой я познакомился с восемнадцатилетнею гувернанткой моих
сестренок, Анюты и Нади. У нее были прекрасные голубые глаза и хорошие
темно-русые волосы, но профиль свежего лица был совершенно неправилен, тем
не менее она своею молодостью могла нравиться мужчинам, если судить по
возгласам, которые я сам слышал среди мужчин, при ее появлении с
воспитанницами на Ядрине, в именины дяди 29 июня. Еще зимой заметил я, что
она с видимым удовольствием принимала от меня знаки внимания, обязательного,
по мнению моему, для всякого благовоспитанного юноши по отношению к женщине.
В настоящий приезд внимание наше друг к другу скоро перешло во взаимное
влечение/ Понятно, что в присутствии отца и матери мы за обеденным или
чайным столом старались сохранять полное равнодушие. Но стоило одному из нас
случайно поднять взор, чтобы встретить взгляд другого. Невольные маневры
эти, вероятно, стали кидаться в глаза посторонним, так как однажды мать
сделала мне наедине по этому поводу замечание.
<...> С точки зрения третейского судьи, на которую я становлюсь в моих
воспоминаниях, невозможно не видеть ежеминутного подтверждения истины, что
люди руководствуются не разумом, а волей. Какой смысл могло представлять
наше взаимное с m-le Б. увлечение, если подумать, что я был 19-летний, от
себя не зависящий и плохо учащийся студент второго курса, а между тем дело
дошло до взаимного обещания принадлежать друг другу, подразумевая законный
брак. Мы даже обменялись кольцами, так как я носил подаренное мне матерью
кольцо, а у нее тоже было обручальное кольцо ее покойного отца. Что такое
обещание было не шуткой, явно из того, что однажды, думая покончить эту
неразрешимую задачу, я вышел из флигеля на опушку леса Дюкинского верха с
заряженною двустволкой и некоторое время, взведя курки, обдумывал, как
ловчее направить в себя смертельный удар. Слезы изменили окончательную мою
решимость, и я ушел домой. Не прибавлю ничего к описанию минуты, в которой я
сам не берусь различить всех сокровенных побуждений.
Мало ли о чем мечтают 19-летние мальчики! Между прочим я был уверен,
что имей я возможность напечатать первый свой стихотворный сборник, который
обозвал "_Лирическим Пантеоном_", то немедля приобрету громкую славу, и
деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся сторицей. Разделяя такое
убеждение, Б., при отъезде моем в Москву вручила мне из скудных сбережений
своих 300 рублей ассигнациями, - так как тогда счет на серебро еще не
существовал, - на издание, долженствовавшее, по нашему мнению, упрочить нашу
независимую будущность. Мы расстались, дав слово писать через старую
Елизавету Николаевну.
Весь этот невероятный и, по умственной беспомощности, жалкий эпизод
можно понять только при убеждении в главенстве воли над разумом. Сад,
доведенный необычно раннею весной до полного расцвета, не станет рассуждать
о том, что румянец, проступающий на его белых благоуханных цветах,
совершенно несвоевременен, так как через два-три дня все будет убито
неумолимым морозом.
-----
С переходом на второй курс, университетские занятия более
специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина,
и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по
временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул
при разъезде вместо: "коляску Григорьева! - коляску Гегеля!". С той поры в
доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил
Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды, до крайности прилежный
Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы
своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются
"субъект" с "объектом". Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в
"_Отечественные Записки_", как критик, и не открывал еще своего похода
против наших псевдоклассических писателей. Не думая умалять его почина в
этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в
воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет
благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая
никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда
с сердечной привязанностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло
относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие
положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к
предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию
красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или
разъяснение Крюковым красот Горация. Вероятно, желая более познакомиться с
нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать
критический разбор какого-либо классического произведения отечественной
литературы. Не помню, досталось ли мне или выбрал я сам оду Ломоносова на
рождение порфирородного отрока, начинающуюся стихом:
"Уже врата отверзло лето".
Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические
неточности, какофонии и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде:
"и Тавр и Кавказ в Понт бегут".
Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти
недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью
Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей
способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван
Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным
указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать
от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев
державинской силы - то же, что требовать от Бетховена листовской игры на
рояле, а от Листа - бетховенских произведений.
Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии
своими иллюстрациями к произведениям Гоголя. В то время мне приходилось не
только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но
и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего
бархатным тенором.
Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться
неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева Ник.
Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии Дмитровского уезда; он,
кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки.
Через Ратынского познакомился я с двумя орловскими земляками-студентами,
жившими на одной квартире: Гриневым и поэтом Лизандром.
Пламенная переписка между Еленой Григорьевной и мною продолжалась до
начала октября; но вдруг совершенно неожиданно явился Илья Афанасьевич с
известием, что "папаша прибыли в Москву и остановились с сестрицами Анной и
Надеждой Афанасьевными у Харитония в Огородниках, в доме П. П. Новосильцова
и просили пожаловать к ним". На дворе Новосильцова стояла наша желтая
четвероместная карета, в которой отец, в сопровождении няньки Афимьи, привез
моих сестренок, чтобы везти их в Смольный монастырь. Не успел я
поздороваться с отцом и сестрами, как в комнату вошел в новом блестящем
мундире П. П. со словами: "Как вы кстати приехали, почтеннейший Афанасий
Неофитович; я назначен московским вице-губернатором и сию минуту еду
принимать присягу. Мы на днях с семейством переедем сюда из нашей
Сокольничьей дачи, и вашему студенту, право, не стыдно было бы зимою бывать
у нас, где он по воскресеньям встретит своих бывших товарищей-кадетов Ваню и
Петю Борисовых. Славные ребята; особенно хорошо учится и ведет себя Ваня".
После обеда, приготовленного отцовским походным поваром Афанасием
Петровым, отец, оставшись со мною наедине, неожиданно вдруг сказал:
"Беспутную Елену Григорьевну я расчел, а девочек везу в институт.
Матку-правду сказать, некрасивую глупость ты там затеял. Хорошо, что я
вовремя узнал обо всем случайно; но прежде всего il faut partir du point ou
on est" {50}.
На другой день отец уехал в Петербург, а недели через две тем же путем
проследовал в Новоселки.
Во время остановки в Москве отец представил меня в доме своего
однофамильца и дальнего родственника Семена Николаевича, занимавшего дом на
Большой Никитской против Большого Вознесения. Мценский помещик Семен
Николаевич, проводивший зиму с женою и двумя взрослыми дочерьми в Москве,
был типом солидного русского барина. Постоянным его чтением был Капфиг, и
вся обстановка дома отличалась безукоризненною аккуратностью. Все часы в
доме били единовременно и строго согласовались с золотыми карманными часами,
стоявшими перед хозяином в кабинете на столе. Утро он проводил в кабинете в
красном шелковом халате, но к обеду, хотя бы и без гостей, выходил в
воздушном белом галстуке, а жена и дочери обязательно нарядно одетыми.
Дворецкий и ливрейные слуги с особенным искусством накрывали стол, на
котором приборы и вдоль и поперек должны были представлять прямые линии, так
что. каждая отдельная рюмка или стакан с одного конца стола до другого
закрывали весь ряд своих товарищей. С первым ударом пяти часов Семен
Николаевич выходил к столу, где около дымящегося супа уже стояла его жена и
около своих мест ожидали красивые и благовоспитанные дочери. После обеда
Семен Николаевич отправлялся на часок отдохнуть и затем уже проводил вечер,
слушая прекрасную игру на рояли преимущественно одной из дочерей, или же
большею частию за карточным столом с гостями. Одною из оригинальных черт
Семена Николаевича был обычай, по которому каждый воскресный день утром,
когда барин был еще в халате, камердинер, раскрывши в кабинете запертый
шкаф, ставил перед Семеном Николаевичем на большом блюде груду золотых, а на
меньшем собрание драгоценных перстней и запонок, и Семен Николаевич мягкою
щеткою принимался систематически перечищать свою коллекцию. Не знаю почему,
но я с первых посещений заслужил расположение Семена Николаевича и убедился,
что этот в свое время благовоспитанный и начитанный человек не особенно
нежно относился к членам своей семьи. Каждый раз, когда я обедал у него, нам
подавали полбутылки Аи, из которой одной капли не попадало в бокалы дам, и
достаточно было при уходе из-за стола ему сказать: "А вы, Афанасий
Афанасьевич, посидите с моими дочерьми", для того чтобы ни одна из них не
сделала шагу из гостиной до отцовского пробуждения.
Однажды вечером в залу какой-то темно-русый гость ввел двух мальчиков.
- Устройте им сиденья пред роялью, - сказал Семен Николаевич, обращаясь
к дочерям.
Приведенным мальчикам, по-видимому, было около восьми лет; их усадили
на подмощенных нотах за рояль, и учитель стал за ними, перевертывая ноты.
Блистательная игра мальчиков продолжалась около часу, а затем они сели на
паркет, куда им дали конфект, фруктов и каких-то игрушек. Мальчики эти были
братья Рубинштейны, с которыми позднее мне случалось встречаться не раз в
период их славы.
Между тем я тщательно приберег деньги, занятые на издание, и к концу
года выхлопотал из довольно неисправной типографии Селивановского свой
"Лирический Пантеон".
Письма от Елены Григорьевны вдруг прекратились, и я отчасти понял тому
причину.
Однажды вечером, когда я, тоскуя, старался помешать Аполлону в его
занятиях, мальчик Ванюшка подал мне небольшую запечатанную записку, в
которой я прочел: "Выходи поскорее за ворота, в карете я тебя ожидаю.
Твоя Ел."
Узнавши руку, я только надел фуражку и без шинели и калош побежал за
калитку, где незнакомый слуга помог мне сесть в карету.
Мы бросились в объятия друг другу, и она тотчас же стала тревожиться,
что я на морозе так легко
одет.
- Ничего, ничего, - говорил я в крайнем смущении; а она, далеко
запахивая полу пышной песцовой шубы, старалась прикрыть меня от стужи. Но
мне было не до того: мысли пересыпались в моей голове, как бисер в
калейдоскопе, и я никак не мог понять, куда и зачем нас везут. Из отрывочных
слов и восклицаний я мог наконец понять, что отец мой, узнавши все, поступил
с Еленой, как она сама говорила, самым деликатным образом. О наших
отношениях он не сказал ни слова, а только сослался на необходимость
поместить двух девочек, по примеру старшей сестры их, в институт и,
уплативши ей за полгода вперед, с благодарностью возвратил ей триста рублей,
занятые у нее сыном студентом.
- Теперь, - говорила Елена, - я поступила в компаньонки к дочерям
генерала Коровкина в Ливенский уезд, и вот причина, почему из этого дома я
не могла тебе писать. В настоящее время Коровкины переехали в Москву, - и
она сказала их адрес. - А я по праздникам буду брать карету и приезжать
сюда, а у Коровкиных буду говорить, что эту карету прислала за мною моя
подруга.
Раза два нам пришлось видеться таким образом, хотя, признаюсь, я стал
мало-помалу понимать всю нелепую несбыточность наших затей. Но у меня
недоставало духу разочаровывать мечтательницу, и письма снова
беспрепятственно стали ходить между нами.
Однажды, распечатавши письмо, я прочел: "Все пропало; глупый извозчик,
на вопрос об имени моей подруги, сказал, что он прямо с биржи. Таким
образом, все вышло наружу, принимая самый неблагоприятный оттенок по
отношению к нашим с тобою свиданиям. Я сегодня же оставляю их дом".
Возмущенный до глубины души ролью человека, набросившего
неблагоприятную и совершенно незаслуженную тень на несчастную девушку, я
счел своею обязанностью отправиться к генералу. Я сам чувствовал всю
нелепость моей выходки. Но долг чести прежде всего, думалось мне, и я
добился желаемой аудиенции.
- Что вам угодно? - спросил генерал, когда я вошел к нему в кабинет.
- До вчерашнего дня, - отвечал я, - у вас проживала m-lle Б-а, с
которой я познакомился в доме моих родителей и испросил у нее ее руку.
Теперь я узнал, что в ни чем не повинная девушка навлекла свиданием со мною
на себя незаслуженное нарекание, и счел своим долгом засвидетельствовать,
что в этих свиданиях не было и тени чего-либо дурного.
- Если вы хотели, - отвечал генерал, - позаботиться о чести девушки, то
избрали для этого наихудший путь. Зная вашего батюшку, я уверен, что он ни в
каком случае не даст своего согласия на подобный брак, и разглашать самому
тайные свидания с девицей не значит восстановлять ее репутацию. Я отказал
m-lle Б-ой потому, что она не обладает сведениями, которые могли бы быть
полезны моим дочерям.
Убедившись в своей неудаче, я поклонился и вышел.
Действительность иногда бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Такою
оказалась развязка нашего полудетского романа. Только впоследствии я узнал,
что ко времени неожиданной смуты так же неожиданно приехал в Москву чиновник
из Петербурга и проездом на Кавказ, к месту своего назначения, захватил и
сестру свою Елену Григорьевну. Впоследствии я слышал, что она вышла там
замуж за чиновника, с которым, конечно, была гораздо счастливее, чем могла
бы быть со мною.
-----
<...> "Лирический Пантеон", появясь в свете, отчасти достиг цели.
Доставив мне удовольствие увидать себя в печати, а барону Брамбеусу
поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв
"Отечественных Записок" {51}. Конечно, небольшие деньги, потраченные на это
издание, пропали безвозвратно.
<...> Брата Васю я уже в Новоселках не застал {52}, так как еще зимою
отец отвез его кратчайшим путем в Верро в институт Крюммера, у которого я
сам воспитывался. В доме с семинаристом-учителем находился один меньшой
семилетний брат Петруша, а я по-прежнему поместился в соседней с отцовским
кабинетом комнате во флигеле, и те же сельские удовольствия, то есть рыжая
верховая Ведьма, грубый Трезор и двуствольное ружье были по-прежнему к моим
услугам.
Мне приходится говорить о романе дяди Петра Неофитовича, романе, о
котором я никогда не смел спросить кого-либо из членов семейства, а тем
менее самого дядю, и хотя он известен мне из рассказов слуг, вроде Ильи
Афанасьевича, тем не менее несомненные факты были налицо.
Крутой правый берег речки Ядринки, на левом, менее возвышенном
побережье которой находилась дядина усадьба, - называется Попами, так как
вокруг каменной приходской церкви и погоста селятся священно- и
церковнослужители. Верстах в двух по так называемой Сушковской дороге, в
старину весьма торной, находится деревня Чахино, Тулениново тож, по имени
владельцев Тулениновых. Главою семейства был, не знаю отставной или на
службе, полковник Платон Гаврилович Туленинов, у которого были две, как
говорят, красивые сестры: Марья и Клавдия. Последнюю, впрочем, мне довелось
знать лично, когда она вдовою господина Богданова вышла замуж за отставного
чиновника Адриана Ивановича Иваницкого.
За несколько лет до моего рождения дядя Петр Неофитович сделал
формальное предложение старшей Тулениновой, Марье Гавриловне, которая дала
свое согласие и подарила ему, как охотнику, на чумбур длинную и массивную
серебряную цепь, которую я впоследствии держал в руках.
Что между ними произошло, наверное утверждать не стану; но говорили,
будто бы дядя представлял своего двоюродного брата Кривцова своей невесте, а
та не успела снять перчатку и дала в ней поцеловать руку. Зная дядю, я
никогда не доверял такому объяснению события по соображениям из лакейской.
Последовала размолвка, и дядя будто бы взял свое слово назад. Говорят также,
будто злоязычный Петр Яковлевич Борисов раздул эту историю пред полковником
Тулениновым, и тот, по неизвестным мне причинам, застрелился в собственном
доме.
С Сушковской дороги по сей день, шагах во ста от окопа Ядринского
кладбища, виден в поле большой камень, и поныне всякий местный житель
скажет, что это могила Туленинова.
По смерти главы семейства и старшей его сестры имение перешло к меньшой
- Клавдии Иваницкой. Впоследствии я видел Клавдию Гавриловну у нашей матери
в гостях, но я ее встретил в первый раз в Троицын день на Ядрине в церкви.
День был яркий и почти знойный. В церкви пахло свежими березками и травою,
которою устлан был помост. Бодрый, но хромой старик Овсянников быстро
ковылял по церкви с пучками свечей и с медяками на тарелке. Он весело
раскланивался со всеми и, видно, был очень доволен своею
распорядительностью.
Впоследствии мне постоянно казалось, что "Однодворец Овсянников" списан
Тургеневым с являвшегося ко всем окрестным помещикам и приносившего в
подарок свежего меду из своего пчельника однодворца Ивана Матвеевича
Овсянникова. Старуха, жена его, Авдотья Ионовна, повязывавшая голову пестрым
ковровым платком с вырывающейся кверху бахромою и в пестром праздничном
платье была истым подобием бубнового короля.
Когда я в белых летних штанах и безукоризненно новом сюртуке стал
против царских дверей в северных дверях, - с протянутою вперед рукою
заковылял Иван Матвеевич, раздвигая дорогу двум входящим дамам. Впереди шла
плотная барыня с выступающею на лбу из-под шляпки фероньеркой на темно-русых
волосах. Дама прошла передо мною и остановилась недалеко от правого клироса,
но молодая брюнетка, очевидно, дочь ее, стала на место, указанное ей рукою
Ивана Матвеевича, как раз передо мною. Девушке не могло быть более 16-17
лет; небольшая тирольская соломенная шляпка нисколько не закрывала ее черных
с сизым отливом роскошных волос, подобранных в две косы под самую шляпку.
Белое тарлатановое платье ее было без всяких украшений, за исключением
широкой, ярко-красной ленты. Я передвинулся немного вправо, заметив, что по
временам она оборачивает голову к матери. О, что за прелесть, что за
свежесть лица, напоминающего бархатистость лилеи, и что за
приветливо-внушительные черные глаза под широкими черными бровями!
"Кто такая?" - спросил я шепотом во время пения Ивана Матвеевича,
поймав его за рукав.
- Это тулениновская барыня Клавдия Гавриловна, что вышла теперь за
Иваницкого; а это ее дочка от первого мужа Богданова, Матрена Ивановна.
Впоследствии Клавдия Гавриловна приехала с визитом к нашей матери, и
хотя последняя по болезненности не бывала в Туленинове, Клавдия Гавриловна
от времени до времени появлялась у нас даже за обедом. Простудила ли она
когда-либо горло, но гозорила постоянно шепотом, чем, при известной полноте
и небольшом росте, заслужила прозвание утки-шептуна. Без золотого обруча на
волосах и какого-то камня на лбу я ее никогда не видал. Если она любила
украшать свою особу, то еще более любила танцы, которые, благодаря
расквартированным по окрестностям офицерам пехотного полка, умела устраивать
у себя в доме невзирая на беспокойное состояние супруга, кончавшего день
роковым охмелением. Танцующая в одной кадрили с дочерью, охотница до танцев
не стеснялась отвечать на ехидные подчас вопросы: "А где же Адриан
Иванович?". Затрудняясь в своем хриплом шепоте произношением буквы "б", она
на подобный вопрос отвечала: "Он припран", - обозначая тем, что ввиду
предстоящего танцевального вечера шумливый Адриан Иванович связан и положен
в пустой амбар. Конечно, такое обращение не могло нравиться Адриану
Ивановичу, который терпел его, так как владетельницей была Клавдия
Гавриловна.
Не могу утвердительно сказать в каком году, но помню хорошо, что, когда
после чаю я пришел к отцу во флигель, новый его камердинер, сын приказчика
Никифора Федорова, Иван Никифорович доложил, что пришел господин Иваницкий.
- Иваницкий? - сказал отец, глядя на меня вопросительно. - Что ему от
меня надо? Проси, - сказал отец, обращаясь к слуге.
Вошел во фраке с гербовыми пуговицами сухопарый и взъерошенный господин
и сказал с несомненно малороссийским акцентом: "Я к вам, Афанасий
Неофитович, пришел пешком, да, да, пешком. Вот видите, как есть пешком".
- Вижу, - отвечал отец, - но что же мне доставляет удовольствие вас
видеть?
- Я пришел вам заявить, что меня вчера мои домашние убили, да, да,
убили, да; зарезали, да. И я вот пришел пешком по соседству заявить, что
меня убили, да.
- Но как же я имею удовольствие с вами беседовать, если вас вчера
убили?
- Точно, точно, да; зарезали; и пожалуйте мне лошадку до Мценска подать
объявление в суд.
- Очень жалею, что вас убили, и готов служить вам лошадьми, но только в
противоположную от Мценска сторону, по простой русской пословице: "свои
собаки грызутся...".
- Так вы не пожалуете мне лошадку?
- Извините, пожалуйста, - не могу. Иваницкий поклонился и ушел.
В те времена от самой Ядринки и до Оки по направлению к дедовскому
Клейменову тянулись почти сплошные леса, изредка прерываемые распашными
площадями и кустарниками. Этим путем дядя, дав мне в верховые спутники егеря
Михаилу, отправлял в Клейменово с тем, чтобы мы могли дорогою поохотиться и
на куропаток и на тетеревов, которых в те времена было довольно. Хотя дядя
сам нередко переезжал в Клейменово и потому держал там на всякий случай
отдельного повара, но я не любил заставлять людей хлопотать из-за меня и
довольствовался, спросив черного хлеба и отличных сливок.
Однажды дядя, нежданно подъехав к крыльцу, захватил меня за этой
трапезой.
- Ох, ты все свое молочище глотаешь; ну как тебе не стыдно не заказать
обеда?
В клейменовском доме с поступлением имения к дяде ничего не изменилось
из дедовской обстановки. Те же белые крашеные стулья, кресла, столы, зеркала
и диваны времени Империи. Только в комнате за гостиной на стене снова
появились портреты консула Наполеона и Жозефины, находившиеся с 12-го года в
опале у деда и висевшие в тайном кабинете. Когда я спросил об этом дядю,
горячего поклонника гения Наполеона, дядя с хохотом сказал: "Да, да, как
только Наполеон перешел Неман и сжег Москву, так дядя Василий Петрович его
вместе с женой и разжаловал".
В Клейменове к дяде являлись те же увивавшиеся около него
мелкопоместные дворяне, между прочим, неизменный Николай Дмитриевич Ползиков
в неизменном сером казакине ополчения. В те времена клейменовские пруды, и
верхний и нижний, представляли прекрасное купание, и дядя, мастерски
плававший, не пропускал хорошего летнего дня не выкупавшись. Мы оба с
Ползиковым, хотя и весьма печальные пловцы, не отставали, не пускаясь на
середку пруда, среди которой дядя отдыхал на спине.
Однажды пред купанием мы, сняв платье, все трое лежали на берегу,
чтобы, как говорится, очахнуть. Светло-голубое безоблачное небо, как раз
перед глазами лежащего навзничь дяди, внезапно вызвало у него мысли вслух:
"И-и-и, - воскликнул он, - так-то душа моя взовьется и взлетит высоко,
высоко; а ты, Афоня, не беспокойся; вот и Николай Дмитриевич знает, что
твоих сто тысяч лежат у меня в чугунке".
В начале августа дядя как-то сказал; "Теперь начинается пролет дупелей,
и тут около Клейменова искать их негде; я дам тебе тройку в кибитку, Мишку
егеря с его Травалем, Ваньку повара, благо он тоже охотится с ружьем, да ты
возьми с собою своего Трезора, и поезжайте вы при моей записке в имение
моего старого приятеля Маврина; там в запустелом доме никто не живет; но с
моей запиской вас все-таки примут насколько возможно удобно, да не забудь
взять мне круг швейцарского сыру, который у них отлично делают в сыроварне".
В назначенный день тройка наша остановилась перед длинным, соломою
крытым, барским домом. Перекрыт ли дом соломою по ветхости деревянной крыши,
или простоял он век под нею - неизвестно.
- Пожалуйте, - сказал появившийся в отпертых дверях староста, - если
прикажете самоварчик, мы сейчас поставим.
Пришлось проходить по анфиладе пустых комнат до последней угольной, в
которой сохранились вокруг стен холстом обтянутые турецкие диваны. Из какой-
то предыдущей комнаты принесли уцелевший стол, и, с помощью своих подушек и
простынь, я устроился на ночлег, так как для вечернего поля времени было
мало. Чай, сахар и свечи у нас были свои, а молока и яиц оказалось сколько
угодно. Любопытство заставило меня взглянуть на соседнюю комнату, оканчиваю-
щую, подобно спальне, другую анфиладу, обращенную к саду. Только в этой
комнате ставни были раскрыты в совершенно заросший и заглохший сад; во всей
же анфиладе закрытые окна представляли, особенно к вечеру, непроглядный
мрак.
Сказавши Михаиле, чтобы он, запасшись проводником, разбудил меня на
утренней заре, я отпустил людей, которые, забрав самовар, ушли, должно быть,
ночевать в повозке, так что я в целом доме остался один.
Только впоследствии, постигнув утешение, доставляемое чтением в
одиночестве, я умел запасаться книгою, над половиною страницы которой
обыкновенно засыпал, никогда не забывая в минуту последней искры
самосознания задуть свечу; но во времена студенчества я еще не возил с собою
книг и, чтобы хотя на миг разогнать невыносимую скуку, читал на табачном
картузе: "Лучший американский табак Василия Жукова; можно получать на
Фонтанке, в собственном доме", и через минуту снова: "Лучший американский
табак" и т. д.
На этот раз я даже не зажигал свечки, а лег на диван, стараясь заснуть.
Сумерки незаметно надвинулись на безмолвную усадьбу, и полная луна,
выбравшись из-за почерневшего сада, ярко осветила широкий двор перед моею
анфиладой. Случилось так, что я лежал лицом прямо против длинной галереи
комнат, в которых белые двери стояли уходящими рядами вроде монахинь в
"Роберте".
Но вот среди тишины ночи раздался жалобный стон; ему скоро завторил
другой, третий, четвертый, десятый, и все как будто с разными оттенками. Я.
догадался, что это сычи, населяющие дырявую крышу, задают ночной концерт. Но
вот к жалобному концерту сычей присоединился грубый фагот совы. Боже, как
тут заснуть под такие вопли? Даже равнодушный Трезор, уместившийся около
дивана, начинал как бы рычать в полусне, заставляя меня вскрикивать: тубо!
Зажмурю бессонные глаза, но невольно открываю их, и передо мною опять в
лунном свете ряд белых монахинь. Это наконец надоело; я встал, затворил
дверь комнаты и понемногу заснул.
На другой день проводник направил нас на неширокую речку с плавучими
берегами. Дупелей оказалось мало; зато утки вырывались из камышей чуть ли не
на каждом шагу из-под самых ног и кряканьем разгоняли бекасов.
<...> Не желая утомлять внимание читателя описаниями более или менее
удачных охот, которыми пополнялась деревенская жизнь моя во время вакаций,
упомяну об одной из них в доказательство того, как баловал меня дядя.
Отправились мы с ним на дупелей в доставшееся ему от дяди Василия Петровича
Долгое, близ реки Неручи, славившейся в то время своими болотами. Если жилые
помещичьи усадьбы александровского времени, за некоторыми исключениями,
принадлежали к известному типу, о котором я говорил по поводу Новоселок, то
заезжие избы в имениях, где владельцы не проживали, носили, в свою очередь,
один и тот же характер исправной крестьянской избы. Сквозные сени отделяют
чистую избу с голландскою печью и перегородкою от черной избы с русскою
пекарной печью. В такой заезжей избе в Долгом остановились мы с дядей,
сопровождаемые егерями, поваром и прислугой. Так как по полям и Краям болот
неудобно ездить четверкою в коляске, то на охоту мы выезжали в боковой
долгуше, запряженной парою прекрасных лошадей в краковских хомутах, у
которых клещи подымаются кверху и загибаются в виде лиры, и на которой на
одном ее рожке висит лоскут красного сукна, а на другом шкура барсука. Под
горлом у лошадей повешены бубенчики. Сам дядя трунил над этой упряжью,
говоря, что мальчишки будут принимать его за фокусника и кричать вослед:
"Мусю, мусю, покажи нам штуку". Кроме того, на случай усталости дяди от
ходьбы по болоту, берейтор вел за ним любимого им верхового Катка, красивую
лошадь Грайворонского завода {53}, чем отец был весьма доволен. Помню, что
пред вступлением нашим в широкое болото, дядя подозвал трех или четырех
бывших с нами охотников и сказал: "Равняйтесь и ищите дупелей, но боже
сохрани в кого-либо выстрелить; когда собака остановится, кричи: гоп! гоп! и
подымай ружье кверху. Стрелять можно по дупелю только, если Афанасий
Афанасьевич, подойдя, даст два промаха".
При этом он не только запретил стрелять егерям, но когда и его
собственная собака останавливалась, он кричал мне: "Иди сюда, птичья
смерть". А когда, набегавшись таким образом от дупеля к дупелю, я устал, он
говорил мне: "Садись на Катка", хотя сам, видимо, утомился не меньше.
В те времена я о том не думал, да так и по сей день для меня осталось
необъяснимым, почему Семен Николаевич Шеншин, так радушно принимавший меня в
Москве на Никитской, покинув Москву, переселился во Мценск. Было бы понятно,
если бы он переселился в свое прекрасное, благоустроенное имение Желябуху;
но почему он избрал Мценск и притом не только для зимнего, но и летнего
пребывания, объяснить не умею. Он занимал лучший во всем городе двухэтажный
дом с жестяными львами на воротах. Львы эти и по сей день разевают на
проходящих свои пасти, выставляя красные жестяные языки. Ничто в домашнем
обиходе Семена Николаевича не изменилось, за исключением разве того, что
старшей дочери, вышедшей замуж за богатого соседнего однофамильца Влад. Ал.,
не было дома. Любитель всевозможных редкостей, Семен Николаевич подарил сво-
ему зятю замечательные по цене и работе карманные часы, которые все желали
видеть и просили нового владельца показать их. Каждое воскресенье к Семену
Николаевичу собирались родные и знакомые откушать и вечером поиграть в
карты. В Новоселках я никогда не отказывал себе в удовольствии послать
Семену Николаевичу дупелей, до которых он был большой охотник.
- Очень вам признателен, - сказал он однажды, когда я приехал к нему, -
за дупелей; но тут же вы прислали несколько перепелок; я их не ем и боюсь;
говорят, между ними попадаются очень жирные, так называемые лежачки, весьма
опасные для желудка.
Слова эти характерны в известном отношении. Будучи всю жизнь охотником,
я после выстрела подымал перепелок и преимущественно дупелей, лопнувших от
жиру при падении, но лежачек, которые будто бы, пролетев пять шагов, снова
падают на землю, не видал никогда, хотя и слыхал о них в те времена, когда
наши местности изобиловали всякого рода дичиной и не были еще истреблены
бесчисленными промышленниками.
В гостеприимном доме Семена Николаевича мне пришлось познакомиться со
многими членами его довольно обширного родства, к которому, очевидно,
принадлежал и наш дом, так как однажды Семен Николаевич, вздвигая рукава и
показывая прекрасные коралловые запонки, сказал! "Это мне подарил дядюшка
Василий Петрович", то есть мой дед.
-----
Об обычном возвращении в Москву на григорьевский верх говорить нечего,
так как память не подсказывает в этот период ничего сколько-нибудь
интересного. Во избежание нового бедствия с политическою экономией, я стал
усердно посещать лекции Чивилева и заниматься его предметом.
В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная
перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня
по крайней мере, заняли Шиллер и главное Байрон, которого "Каин" совершенно
сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев
{54} познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся
тогда "Героем нашего времени". Напрасно старался бы я воспроизвести могучее
впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом. Когда мы
вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков,
уверявший, что ой сделает на романе обертку и возвратит его в полной
сохранности.
- Ну что, Чистяков, как тебе понравился роман? - спросил Григорьев
возвращавшего книжку.
- Надо ехать в Пятигорск, - отвечал последний, - там бывают
замечательные приключения.
К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение
стихами Гейне.
<...> Приехав на две недели рождественских праздников в Новоселки, я
застал большую перемену в общем духовном строе и главное в состоянии
здоровья и настроении больной матери. Отсутствие непосредственных забот о
детях, развезенных по разным заведениям, как и постоянные разъезды отца,
наводили мечтательную мать нашу на меланхолию, развиваемую в ней, с другой
стороны, возрастающими жгучими ощущениями в груди. Отец собирался в
следующую зиму увезти последнего птенца восьмилетнего Петрушу к лифляндской
генеральше Этинген, воспитывавшей своих внучат и любезно предложившей отцу
поместить к ней же малрлетнего сына.
Я никогда до того времени не замечал такой изменчивости в настроении
матери. То и дело, обращаясь к своему болезненному состоянию, она со слезами
в голосе прижимала руку к левой груди и говорила: "Рак". От этой мысли не
могли ее отклонить ни мои уверения, ни слова навещавшего ее орловского
доктора В. И. Лоренца, утверждавшего, что это не рак. В другую минуту мать
предавалась мечте побывать в родном Дармштадте, где осталась старшая сестра
Лина Фет.
Вскоре по моем возвращении в Москву отец привез из Петербурга сестру
Любиньку, окончившую курс в Екатерининском институте, но без шифра {55}, о
котором отец постоянно мечтал.
Великий пост и святая не только подошли, но и прошли незаметно,
особенно для меня, для которого провалиться на экзамене вторично равнялось
исключению из университета. Как нарочно, погода стояла чудная, и, сидя день
и ночь над тетрадками лекций, я мучительно завидовал каменщикам, сидевшим
перед нашими окнами с обвязанными тряпками ступнями на мостовой и
разбивавшим упорные голыши тяжелым молотком. Там знаешь и понимаешь, что
делаешь, и если камень разбит, то в успехе ни сам труженик, ни сторонний
усомниться не может. Здесь же, не зная, что и для чего трудишься, - нельзя
быть и уверенным в успехе, который может зависеть от тысячи обстоятельств.
На этот раз мои каникулы были особенно удачны {56}. Я застал сестру
Лину не только вполне освоившеюся в семействе, но и успевшею заслужить
всеобщую симпатию, начиная с главных лиц, то есть нашего отца и дяди Петра
Неофитовича. Старушка Вера Александровна Борисова, узнав от матери нашей,
что Лина есть сокращенное - Каролина и что покойного Фета звали Петром,
сейчас же переделала имя сестры на русский лад, назвав ее Каролиной
Петровной.
Сестры Лина и Любинька подружились между собой, а брат Петруша так
привязался к старшей сестре, что почти не отходил от нее.
Между всякого рода проделками Лины, в видах оживления общества, помню
одну. В один из семейных праздников, когда гости, вышедши из-за стола,
направились в гостиную к кофею и фруктам, нам нежданно объявили, что барышни
просят всех в новый флигель, стоявший в то время пустым. Хотя до этого
флигеля не было и ста шагов, и погода была прекрасная, для желающих стояли у
крыльца экипажи. Во флигеле мы нашли переднюю с раскрытыми дверями и большую
половину гостиной, уставленную рядами стульев, тогда как меньшая половина
комнаты, упирающаяся в глухую стену, была завешена простынями, из-под
нижнего конца которых виднелись дощатые подмостки. Когда зрители уселись и
простыни раздвинулись, в раме, обтянутой марлей, взорам предстали три фигуры
живой картины, в значении которых не было возможности сомневаться: Любинька
стояла с большим, подымающимся с полу черным крестом и в легком белом
платье; близ нее, опираясь на якорь, Лина в зеленом платье смотрела на небо,
а восьмилетний Петруша в красной рубашке с прелестными крыльями, вероятно,
позаимствованными у белого гуся, и с колчаном за плечами целился из лука
чуть ли не на нас. Конечно, можно бы было заметить, что в картине произошло
смешение христианской символики с греческой мифологией, но критика зрителей
не была так строга, и неподвижно целящийся в течение целых двух минут
хорошенький мальчик заслужил общую симпатию. Раздались рукоплескания, и все
отправились в дом, исполненные действительного или поддельного восторга.
В подтверждение того, что Грибоедов почерпнул из жизни двустишие
Фамусова:
Нет, я перед роднёй ползком,
Сыщу ее на дне морском... -
мне не раз приходилось уже говорить о наших поездках к родным, которые отец
считал обязательными со стороны приличия или пристойности, как он
выражался. Бедная мать, проводившая большую часть времени в постели, только
чувствуя себя лучше по временам, выезжала лишь поблизости и едва ли не в
один дом Борисовых. Зато отец счел бы великим упущением не съездить за
Волхов, верст за сто к неизменной куме своей Любови Неофитовне и не
представить ей вышедшую из института дочь, падчерицу и меня - студента.
Опять желтая четвероместная карета с важами, наполненными дамскими туалетами
и нашим платьем, подъезжает шестериком под крыльцо, дверцы отворяются,
подножка в четыре ступеньки со стуком подставляет свои коврики, и мы
занимаем надлежащие места; повар Афанасий садится с кучером на козлы, а
проворный камердинер Иван Никифоров, крикнув: "Пошел!" - на ходу вскакивает
на запятки и усаживается в крытой сиделке. И поныне проезжий по проселкам и
уездным городам, не желающий ограничиваться прихваченною с собой закуской,
вынужден брать повара, так как никаких гостиниц на пути нет, а стряпне
уездных трактиров следует предпочитать сухой хлеб.
Но вот, худо ли, хорошо ли, карета останавливается перед крыльцом
продолговатого двухэтажного дома, обшитого тесом под тесовою крышей, без
всяких архитектурных украшений и затей, представляющего желтоватый брус,
вроде двух кирпичей, положенных друг на друга. Это и есть село Пальчиково
тетушки Любови Неофитовны Шеншиной.
<...> Отъезжая в конце августа в Москву, я оставил Лину, с которой по
случаю ее начитанности и развитости очень подружился, вполне освоившеюся в
Новоселках. Я бы решился сказать, что доживал до периода, когда
университетское общение и знакомство со всевозможными поэтами сгущало мою
нравственную атмосферу и, придавая в то же время ей определенное течение,
требовало настоятельно последнему исхода.
При трудности тогдашних путей сообщения, прошло некоторое время до
распространения между нами роковой вести о трагической смерти Лермонтова.
Впечатлительный Шевырев написал по этому случаю стихотворение, из которого
память моя удержала только два разрозненных куплета:
"О грустный век! мы видно заслужили
И по грехам нам видно суждено,
Чтоб мы в слезах так рано хоронили
Все, что для дум высоких рождено".
Мысль, что толпе все равно, кончается куплетом:
"Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел,
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Безмолвно пал и песни не допел".
Добрый Аполлон, несмотря на свои занятия, продолжал восхищаться моими
чуть не ежедневными стихотворениями и тщательно переписывал их. Внимание к
ним возникало не со стороны одного Аполлона. Некоторые стихотворения ходили
по рукам, и в настоящую минуту я за малыми исключениями не в состоянии
указать на пути, непосредственно приведшие меня в так называемые
интеллигентные дома. Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что критик
"Отечественных Записок" Васил. Петров. Боткин {57} желает со мной
познакомиться и просит его, Ратынского, привести меня. Ратынский в то время
был в доме Боткиных своим человеком, так как приходил младшим девочкам
давать уроки. Боткин жил в отдельном флигеле, и в 30 лет от роду пользовался
семейным столом, и получал от отца 1000 руб. в год. У Боткина я познакомился
с Александром Ивановичем Герценом {58}, которого потом встречал и в других
московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для
меня величайшее наслаждение. С Вас. Петр, знакомство мое продолжалось до
самой моей свадьбы, за исключением периода моей службы в Новороссийском
крае...
-----
Между тем хмель, сообщаемый произведениями мировых поэтов, овладел моим
существом и стал проситься на волю. Гете со своими римскими элегиями и
"Германом и Доротеей" и вообще мастерскими произведениями под влиянием
античной поэзии увлек меня до того, что я перевел первую песню "Германа и
Доротеи". Но никто, в свою очередь, не овладевал мною так сильно, как Гейне
своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об
этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей
картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ее
ног собаки. Гейне в ту пору завоевал все симпатии; влияния его не избежал и
самобытный Лермонтов. Мои стихотворения стали ходить по рукам. Не могу в
настоящую минуту припомнить, каким образом я в первый раз вошел в гостиную
профессора истории словесности Шевырева. Он отнесся с великим участием к
моим стихотворным трудам и снисходительно проводил за чаем по часу и по два
в литературных со мною беседах. Эти беседы меня занимали, оживляли и
вдохновляли. Я чувствовал, что добрый Степан Петрович относился к моей
сыновней привязанности с истинно отеческим расположением. Он старался дать
ход моим стихотворениям и с этою целью, как соиздатель "Москвитянина",
рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений под названием:
"Снега" {59}. Все размещения стихотворений по отделам с отличительными
прозваниями производились трудами Григорьева.
Счастлив юноша, имеющий свободный доступ к сердцу взрослого человека, к
которому он вынужден относиться с Величайшим уважением. Такой нравственной
пристани в минуты молодых бурь не может заменить никакая дружба между
равными. Мне не раз приходилось хвататься за спасительную руку Степана
Петровича в минуты, казавшиеся для меня окончательным крушением. Но не один
Шевырев замечал мое стихотворство.
Увлеченный до крайности выпуклыми и изящными объяснениями Дм. Льв.
Крюковым Горация? я представил последнему свой стихотворный перевод оды
Горация, кн. I, XIV, "К республике". Как университетское начальство, от
попечителя графа Строганова до инспектора П. С. Нахимова, относилось к
студенческому стихотворству, можно видеть из ходившего в то время по рукам
шуточного стихотворения Я. П. Полонского, по поводу некоего Данкова,
писавшего мизерные стишки к масляной под названием "Блины" и к святой под
названием "Красное Яичко" и продававшего эти небольшие тетрадки
книгопродавцу издателю Лонгинову за десятирублевый гонорар.
Привожу самое стихотворение Полонского, насколько оно удержалось в моей
памяти.
Второй этаж. Платон сидит,
Пред ним студент Данков стоит:
Ну, вот, я слышал, вы поэт.
На Маслянице сочинили
Какие-то блины и в свет
По пятиалтынному пустили.
- Платон Степаныч, я писал
Затем, что чувствовал призванье.
- Призванье? Кто вас призывал?
Я вас не призывал, граф тоже;
То ж Дмитрий Павлович. Так кто же?
Скажите, кто вас призывал?
- Платон Степаныч, я пою
В пылу святого вдохновенья,
И я мои стихотворенья
В отраду людям продаю.
- Опять не то, опять вы врете!
Кто вам мешает дома петь?
Мне дела нет, что вы поете:
Стихов-то не могу терпеть.
Стихов-то только не марайте!
Я потому вам говорю,
Что мне вас жаль. Теперь ступайте!
- Покорно вас благодарю!
Однажды, когда только что начавший лекцию Крюков, прерывая обычную
латинскую речь, сказал по-русски: "М. г., - в качестве наглядной иллюстрации
к нашим филологическим объяснениям од Горация, позвольте прочесть перевод
одного из ваших товарищей, Фета, книги первой, оды четырнадцатой, "К
республике"; при этих словах дверь отворилась, и граф С. Г. Строганов вошел
в своем генерал-адъютантском мундире. Раскланявшись с профессором, он сел в
кресло со словами: "Прошу вас продолжать" - и безмолвно выслушал чтение
моего перевода. Такое в тогдашнее время исключительное отношение к моим
трудам было тем более изумительно, что проявлялось уже не в первый раз. Так,
когда И. И. Давыдов в сороковом году сказал мне на лекции, в присутствии
графа Строганова: "Вашу печатную работу я получил, но желал бы получить и
письменную", граф спросил: "Какую печатную работу?" и на ответ профессора:
"Небольшой сборник лирических стихотворений" - ничего не ответил.
Не помню хорошо, каким образом я вошел в почтенный дом Федора
Николаевича и Авдотьи Павловны Глинок {60}. Вероятно, это случилось при
посредстве Шевырева. Нетрудно было догадаться о небольших материальных
средствах бездетной четы, но это нимало не мешало ни внешнему виду, ни
внутреннему значению их радушного дома. В небольшом деревянном домике, в
одном из переулков близ Сретенки, мне хорошо памятны только три, а если
хотите две комнаты: тотчас направо от передней небольшой хозяйский кабинет,
куда желающие уходили курить, и затем налево столовая, отделенная аркой от
гостиной, представлявшей как бы ее продолжение. Зато это был дом чисто
художественных интересов. Здесь каждый ценился по мере своего усердия к
этому вопросу, и если, с одной стороны, в гостиной не появлялось чванных
людей напоказ, зато не было там и неотесанных неуков, прикрывающих свою
неблаговоспитанность мнимою ученостью. Мастерские переводы Авдотьи Павловны
из Шиллера ручаются за ее литературный вкус, а "Письма русского офицера"
свидетельствуют об образованности их автора. В оживленной гостиной Глинок
довольно часто появлялся оберпрокурор Мих. Ал. Дмитриев 61, о котором я уже
говорил по поводу его сына в Погодинской школе. Между дамами замечательны
были по уму и по образованию две сестры девицы Бакунины, из которых меньшая,
несмотря на зрелые лета, сохранила еще неизгладимые черты красоты. Мы
собирались по пятницам на вечер, и почти каждый раз присутствовал премилый
живописец Рабус, о котором Глинки говорили как о замечательном таланте. Он
держал себя чрезвычайно скромно, выказывая по временам горячие сочувствия
той или другой литературной новинке. Не знаю, по какому случаю на этих
вечерах я постоянно встречал инженерного капитана Непокойчицкого, и когда в
1877 году я читал о действиях начальника штаба Непокойчицкого, то поневоле
сближал эту личность с тою, которую глаз мой привык видеть с ученым
аксельбантом на вечерах у Глинок.
Услыхав о моей попытке перевести "Германа и Доротею", Глинки просили
меня привезти в следующую пятницу тетрадку и прочесть оконченную первую
песнь. Нетрудно представить себе мое смущение, когда в следующий раз, при
появлении моем в гостиной, Федор Николаевич, поблагодарив меня за исполнение
общего желания, прибавил: "Мы ждем сегодня князя Шаховского и решили
прочесть при нем отрывок из его поэмы "Расхищенные шубы". Это старику будет
приятно". Действительно, через несколько времени в гостиную вошел старик
Шаховской {62}, которого я непременно узнал бы по чрезвычайно схожему и
давно знакомому мне из "Ста русских литераторов" {63} гравированному
портрету.
Старому князю, видимо, было чрезвычайно приятно слушать прекрасное
чтение его плавных и по своему времени гармонических стихов.
Тем сильнее было мое смущение, когда, после небольшого всеобщего
молчания, хозяйка напомнила мое обещание прочесть начало перевода. Ведь
нужно же было судьбе заставить меня выступить с моими неизвестными попытками
непосредственно за чтением произведения, славного и присутствовавшего
писателя. Но робость стеснила меня только до прочтения первых двух-трех
стихов, а затем самое течение поэмы увлекло меня, и я старался только, чтобы
чтение было по возможности на уровне содержания. Не менее смущен и восхищен
был я общим одобрением кружка, когда я окончил. Приятнее всего было мне
слышать замечание Рабуса: "Я хорошо знаю "Германа и Доротею", и во все
продолжение чтения мне казалось, что я слышу немецкий текст".
Около полуночи в зале накрывался стол, установленный грибками и всякого
рода соленьями, посреди которых красовалась большая деревенская индейка и,
кроме разных водок, появлялись разнообразные и превкусные наливки.
Совершенно в другом роде были литературные чайные вечера у Павловых
{64}, на Рождественском бульваре. Там все, начиная от роскошного входа с
парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином,
говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве.
Находя во всю жизнь большое удовольствие читать избранным свои стихи, я
постоянно считал публичное их чтение чем-то нескромным, чтобы не сказать
профанацией. Вот почему я всегда старался прийти к Кар. Карл. Павловой, пока
в кабинете не появлялось посторонних гостей. Тогда по просьбе моей она мне
читала свое последнее стихотворение, и я с наслаждением выслушивал ее
одобрение моему. Затем мало-помалу прибывали гости, между которыми я в
первый и последний раз был представлен не меньшей в свое время знаменитости
М. Н. Загоскину {65}. За столом, за которым сама хозяйка разливала чай, и
появлялись редкие еще в то время мелкие печенья, сходились по временам А. И.
Герцен и Т. Н. Грановский {66}. Трудно себе представить более остроумного и
забавного собеседника, чем Герцен. Помню, что увлеченный, вероятно, его
примером, Тимофей Николаевич, которым в то время бредили московские барыни,
в свою очередь, рассказал, своим особенным невозмутимым тоном с
пришепетыванием, анекдот об одном лице, державшем у него экзамен из истории
для получения права домашнего учителя.
"Видя, что человек и одет-то бедно, - говорил Грановский, - я решился
быть до крайности снисходительным и подумал: бог с ним, пусть получит кусок
хлеба. Что бы спросить полегче? - подумал я. Да и говорю: не можете ли мне
что-нибудь сказать о Петре? - Петр, - заговорил он, - был великий государь,
великий полководец и великий законодатель. - Не можете ли указать на
какое-либо из его деяний? - Петр разбил, - был ответ. - Не можете ли
сказать, кого он разбил при Полтаве? Он подумал, подумал и сказал: Батыя. Я
удивился. - Кто же, по вашему мнению, был Батый? Он подумал, подумал и
сказал: Протестант. - Мне остается спросить вас: что такое, по вашему
мнению, протестант? - Всякий, не исповедующий православную греко-российскую
церковь. - Извините, - сказал я, - я не могу поставить вам больше единицы. -
Если вы недовольны и таким знанием, - сказал он уходя, - то я и не знаю,
чего вы требуете".
Помню, что однажды у Павловых я встретил весьма благообразного
иностранного немецкого графа, который, вероятно, узнав, что я говорю
по-немецки, невзирая на свои почтенные лета, подсел ко мне и с видимым
удовольствием стал на чужбине говорить о родной литературе. Услыхав мои
восторженные отзывы о Шиллере, граф сказал: "Вполне понимаю ваш восторг,
молодой человек, но вспомните мои слова: придет время, когда Шиллер уже не
будет удовлетворять вас, и предметом неизменного удивления и наслаждения
станет Гете". Сколько раз пришлось мне вспоминать эти слова.
Однажды, сходя к лекции, Шевырев сказал мне на лестнице: "Михаил
Петрович готовит вам подарок". А так как Степан Петрович не сказал, в чем
заключается подарок, то я находился в большом недоумении, пока через
несколько дней не получил желтого билета на журнал "Москвитянин". На обороте
рукою Погодина было написано: "Талантливому сотруднику от журналиста; а
студент берегись! пощады не будет, разве взыскание сугубое по мере талантов
полученных. Погодин".
В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма
любезный правовед Калайдович {67}, сын покойного профессора и издателя песен
Кирши Данилова {68}. Молодой Калайдович не только оказывал горячее
сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое
небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. Семейство
Калайдовичей состояло из добрейшей старушки матери, прелестной дочери,
сестры Калайдовича, и двоюродного его брата, исполнявшего в доме роль
хозяина, так как сам Калайдович, кончив курс школы правоведения, поступил на
службу в Петербурге и у матери проводил только весьма короткое время.
Старушка так полюбила и приласкала меня, что по отъезде сына я нередко
просиживал вечера в их уютном домике. Чтобы не сидеть сложа руки, мы
раскидывали ломберный столик и садились играть в преферанс по
микроскопической игре, несмотря на мою совершенную неспособность к картам.
Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и
Иваном Аксаковыми {69}. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я
придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в
заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав
между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался
подделаться под руку покойного, передал рукопись Константину Сергеевичу,
сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться
ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услыхал, что Аксаков,
прочитав песню, сказал: "Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько
ее разобрать". Но, кажется, в следующее затем свидание Калайдович
расхохотался и тем положил конец нашей затее.
-----
Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения,
возраставшего по мере приближения весны {70}, Святой недели и экзаменов. Не
буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например,
статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились
на пол втроем или четвером вокруг разостланной громадной карты, по которой
воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны,
обозначенными в лекциях Чивилева.
Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим
весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед
греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время,
когда Ап. Григорьев радостный принес из университета своим старикам
известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из
греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.
Дома более или менее успешно я свалил вину на несправедливость Гофмана;
но внутренно должен был сознаться, что Гофман совершенно прав в своей
отметке, и это сознание, подобно тайной ране, не переставало ныть в моей
груди. Впрочем, сердечная дружба и нравственная развитость сестры Лины во
многих отношениях облегчала и озаряла на этот раз мое пребывание в деревне.
Переполненный вдохновлявшими нас с Григорьевым мелодиями опер,
преимущественно "Роберта", я был очень рад встретить прекрасную музыкальную
память и приятное сопрано у Лины, и бедная больная мать в дни, когда недуг
позволял ей вставать с постели, изумлялась, что мы с сестрою, никогда не
жившие вместе, так часто певали в два голоса одно и то же.
Хотя, как я уже говорил выше, Лина пользовалась в семействе, начиная с
нашего отца, самым радушным сочувствием, тем не менее привычка к безусловной
свободе, очевидно, брала верх, и она объявила, что возвращается в Дармштадт.
Самый отъезд, как я помню, состоялся в начале августа, когда в прекрасном
новосельском фруктовом саду поспели все плоды и, между прочим, крупные груши
под названием "bon Chretien", не уступавшие иностранным "дюшес", хотя росли
на открытом воздухе. Не помню, ходили ли тогда по только что устроенному
шоссе дилижансы из Орла в Москву. Полагаю, что их еще не было, и не могу
припомнить, в чем или с кем Лина проехала из Мценска до Москвы. Понятно, с
каким чувством больная мать навсегда расставалась со старшей дочерью; мы все
были взволнованны и растроганны. В минуту последних объятий все были
изумлены неожиданным возгласом отца: "Что же это такое! все плачут!" С этими
словами невозмутимый старик, которого никто не видал плачущим, зарыдал.
- Каков папа! - восклицала дорогою в карете Лина, обращаясь ко мне. - Я
никак не ожидала от него таких дорогих для меня слез.
Это не помешало самовольной девушке развернуть данные ей груши "bon
Chretien", которыми отец просил ее похвастаться перед дядей Эрнстом.
- Куда я их повезу более чем в 10-дневном пути? - сказала она, доставая
складной дорожный ножик и угощая меня половиною сочной груши.
- Дай мне, - сказала она, - что-нибудь на память из своих вещей, бывших
в ближайшем твоем употреблении. - С этими словами она сняла с меня черный
шейный платок и спрятала в мешок.
Недели через две я и сам вернулся в Москву <...>
...обычная студенческая жизнь брала свое, невзирая ни на какие
потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание
университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною
на верху Полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон
стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И.
Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему
своему ученику, Никита Ив. сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно
старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало
дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь
университетского правления Назимов вышел в отставку, и, при влиянии Крылова
в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления.
Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам нередко приходилось
оставаться одному, по причине отлучек Григорьева из дому.
-----
<...> Можно было предполагать, что неуклонный посетитель лекций и
неутомимый труженик Ап. Григорьев будет безукоризненным чиновником. Но на
деле вышло далеко не то: списки, отчеты с своею сухою формалистикой,
требующие тем не менее настойчивого внимания, не возбуждали в нем никакой
симпатии, и совет университета вскорости пришел к убеждению в совершенной
неспособности Григорьева исполнять должность секретаря правления. Как
нарочно упразднилось место университетского библиотекаря, на которое Крылов
успел поместить Ап. Григорьева. Надо сказать, что пробуждение стариков
посредством музыки Аполлона продолжалось со стороны кандидата, секретаря
правления и библиотекаря точно так же, как оно производилось студентом
первого курса. Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над
догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз
по приглашению: "Ап. Ал., пожалуйте к маменьке головку чесать" - и
подставлял свою голову под ее гребень. Соответственно всему этому Аполлон в
первое время поступления на службу считал своею гордостью отдавать все
жалованье родителям без остатка. И можно было только удивляться наивности
стариков, не догадывавшихся, что молодой чиновник мог нуждаться в карманных
деньгах. Следствием такого недоразумения было тайное сотрудничество
Григорьева в журналах и уроки в богатых домах. К этому Григорьев не раз
говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу и возможности получить с
этой стороны денежной субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский
с раздражением воскликнул: "Григорьев! Подавайте мне руку, хватая меня за
кисть руки сколько хотите, но я ни за что не поверю, чтобы вы были масоном".
Насколько было правды в этом масонстве, судить не берусь, знаю только,
что в этот период времени Григорьев от самого отчаянного атеизма одним
скачком переходил в крайний аскетизм и молился пред образом, налепляя и
зажигая на всех пальцах по восковой свечке. Я знал, что между знакомыми он
раздавал университетские книги как свои собственные, и я далеко даже не знал
всех его знакомых. Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, что
получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в
три часа дня в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить
его до Шевалдышевской гостиницы, откуда уходит дилижанс, и затем вернувшись
с возможною мягкостью объявить старикам о случившемся. Он ссылался на
нестерпимость семейного догматизма и умолял меня во имя дружбы исполнить его
просьбу. Прожить уроками и литературным трудом казалось ему самой легкой
задачей.
Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем,
бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны
Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не
возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и
Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы
в опустелом городе {71}. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на
григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны
Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего
объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день
они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными
вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у
кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по
добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской
библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место.
-----
<...> Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого
университета, мне и в голову не пришло торжествовать какой-нибудь выходкой
радостную минуту. Странное дело! я остановился спиною к дверям коридора и
почувствовал, что связь моя с обычным прошлым расторгнута и что, сходя по
ступеням крыльца, я от известного иду к неизвестному {72}.
Отправился я благодарить добрейшего Ст. П. Шевырева за его постоянное и
дорогое во мне участие. Он оставил меня обедать и даже, потребовав у жены
полбутылки шампанского, пил мое здоровье и поздравлял со вступлением в новую
жизнь.
Был я и у Крюкова, который принял меня в постели и никак не мог понять
моего намерения поступить на кавалерийскую службу.
-----
Вскорости, простившись со стариками Григорьевыми, я отправился в
Новоселки, где застал мать окончательно поселившеюся в так называемом новом
флигеле, где она лежала в постели, с окнами, закрытыми ставнями, и, кроме
двух сменявшихся горничных, никого к себе не допускала, разве на самое
короткое время в случае неизбежных объяснений.
В Новоселках ожидали меня две новости: во-первых, письмо дяди Петра
Неофит., ворчавшего на мое замедление в университете, где, по его словам, я
добивался какой-то премудрости. В этом письме он извещал меня, что в
настоящее время пользуется кавказскими минеральными водами и чувствует силы
свои в такой степени восстановленными, что на днях скакал вперегонку с
линейными казаками. При этом он звал меня поскорее в Пятигорск для
поступления в военную службу, чтобы при производстве занять место адъютанта
при знакомом ему генерале.
Другою новостью было известие о письме Ал. Павл. Матвеева из
Дармштадта, в котором он испрашивал родительского соизволения на брак с
Линой, давшей ему слово {73}.
С своей стороны, и Лина писала в том же смысле. Пока продолжались мои
экзамены, Матвеев писал уже из Киева, что, будучи назначен профессором и
директором клиник, он ни в каком случае не имеет возможности ехать снова за
границу за невестой. Ввиду этого последнего письма отец сказал, что по
обстоятельствам за Линой некому более ехать, кроме меня. "Да кстати, -
прибавил он, - по доверенности матери он может окончательно расчесться с
адвокатом по наследству матери, заключавшемуся в каменном доме на главной
площади, в котором помещалась гостиница Траубе". Вырученная от продажи дома
сумма должна была делиться между тремя братьями Беккер или же их
представителями в нисходящей линии.
Откладывать поездку было неудобно и по отношению к Матвееву и ко мне,
без того потерявшему много лет в университете. Поэтому, получивши от отца
небольшую сумму денег, я тем же путем вернулся в Москву к старикам
Григорьевым и, доехав в дилижансе до Петербурга, немедля взял место на
отходившем в Штетин пароходе "Николай". Зная, что платье несравненно дешевле
за границей, я сел на корабль в студенческом сюртуке.
-----
<...> Сестра должна была расставаться не только со своей хорошей
мебелью и безделушками, но также с кроликами, всякого рода птицами и
лягушками. Зато оставить своих любимцев, серого попугая Коко и колибри, она
не решилась, и мастера сделали ей небольшую клетку с тесным помещением для
Коко вверху и миниатюрным внизу для колибри.
Наконец, когда мы разочли, что поклажа наша, согласно словам
комиссионера, должна была прибыть в Штетин, мы, в свою очередь, тронулись в
путь. Надо правду сказать, этот путь, при тогдашних дилижансах да еще под
дождем по грязному шоссе, представлял мало привлекательного. Из Штетина до
Свинемюнде мы доехали на речном прусском пароходе под звуки весьма плохого
оркестра, пилившего в угоду русским путешественникам Варламовское "На заре
ты ее не буди..." {74}.
Когда прусский пароход стал подтягиваться к морскому "Николаю", и
оркестр замолк, матрос, чаливший канат, не вытерпел и сказал: "Вот и мы
добрались с нашей Burstenmusik" (щеточной музыкой).
Несмотря на сильное волнение, которым встретило нас Балтийское море, мы
на третий день добрались до Кронштадта и затем набережной перед
петербургской таможней. Покуда причаливали и накладывали трап, я оглядывал
толпу, встречавшую пароход, и увидал за гранитным парапетом кивавшую мне
голову в каске. Это была голова давнишнего товарища и друга Ивана Петровича
Борисова. Не любя толкотни, я не спешил на берег, и Борисов показал нам
знаком, что он придет на пароход. Я сейчас же представил его сестре, которая
во время пребывания в Новоселках настолько выучилась по-русски, что могла с
грехом пополам объясняться. Чтобы не говорить среди шумной толпы, я увел
Борисова в опустевшую каюту.
- Ну что? - спросил я.
- Мало хорошего, - отвечал он, - скорее больше дурного: дядя твой Петр
Неофит., вызывавший тебя на службу на Кавказ, сперва было поправился
молодцом от болезни, а затем скоропостижно в Пятигорске скончался. Там он и
похоронен.
- А что сталось с моими деньгами, о которых он мне столько раз говорил?
- Деньги неизвестно каким образом из его чугунка пропали, и на долю
твою ничего не осталось.
Как ни тяжела была такая неожиданная утрата, но я всегда держался
убеждения, что надо разметать путь перед собою, а не за собою, и поэтому в
жизни всегда заботило меня будущее, а не прошедшее, которого изменить
нельзя. Еще отправляясь в Германию, я очень хорошо понимал, что ввиду
отсрочки ехать к дяде на Кавказ, где через полгода ожидал меня офицерский
чин, дававший в то время еще потомственное дворянство, я приносил тяжелую
жертву, заботясь о судьбе сестры; но я счел это своим долгом и дорого за
него заплатил.
До Москвы в прекрасной почтовой карете мы доехали и по старой памяти
остановились у старика Григорьева, у которого, чтобы доехать до Новоселок, я
купил поезженный двухместный фаэтон, а громоздкую поклажу отправил через
контору транспорта.
Бедная страдалица-мать наша оставалась на одре болезни безвыходно в
новом флигеле, в комнате с постоянно закрытыми окнами, так что в спальне
царила непрестанная ночь. Кроме сменявшихся при ней двух горничных, она
никого не принимала. Так и нас, в свою очередь, она приняла не более двух
минут, благословила и дала поцеловать руку.
До отъезда моего в Германию больная принимала меня иногда в течение
5-10 минут. Но как ужасны были для меня эти минуты! Вопреки уверениям
доктора Лоренца, что ничего определенного о ее болезни сказать нельзя, мать
постоянно твердила: "Я страдаю невыносимо, рак грызет меня день и ночь. Я
знаю, мой друг, что ты любишь меня; покажи мне эту любовь и убей меня".
Я очень хорошо знал, какому в те времена подвергал себя наказанию. Но я
каждую минуту готов был зарядить свои пистолеты и прекратить невыносимые
страдания дорогой матери.
Через несколько дней на самый короткий срок приехал из Киева жених
сестры профессор Матвеев. Конечно, все мы стали просить его осмотреть
больную.
- Ну что? - спросил я его, когда он выходил из спальни.
- Не могу понять, - отвечал он, - какое может быть тут сомнение: у нее
рак в левой груди и внизу живота, и ей не прожить долее семи дней.
Свадьба Матвеевых справлена была самым скромным домашним образом, и
ввиду кратковременного отпуска, молодые на другой же день в подаренной им
отцом коляске с четверкою лошадей, кучером и горничной отправились на своих
в Киев, куда прибыли только на десятый день {75}.
Несмотря на смертельные муки, мать из своего мрачного заточения
заботилась о приданом Лины до мельчайших подробностей. С отъездом молодых в
целом семействе внезапно почувствовалась томительная пустота. Я большую
часть времени проводил наедине в бане, служившей мне помещением.
Однажды, когда после долгого чтения на сон грядущий, я только что
заснул перед утренним светом, меня разбудил голос горничной, воскликнувшей:
"Аф. Аф., пожалуйте поскорее во флигель, мамаша кончается".
Не прошло и двух минут, как, надев сапоги и халат, я уже тихонько
отворял дверь в спальню матери. Бог избавил меня от присутствия при ее
агонии; она уже лежала на кровати с ясным и мирным лицом, прижимая к груди
большой серебряный крест. Через несколько времени и остальные члены
семейства, начиная с отца, окружили ее одр. Усопшая и на третий день в гробу
сохранила свое просветленное выражение, так что несловоохотливый отец по
окончании панихиды сказал мне: "Я никогда не видал более прекрасного
покойника".
Отпуская покойницу за 30 верст в родовое село Клейменово, отец
поклонился ей в землю и сказал: "Скоро и я к тебе буду". Тем не менее он
прожил еще 11 лет.
|