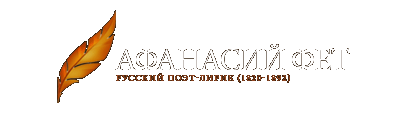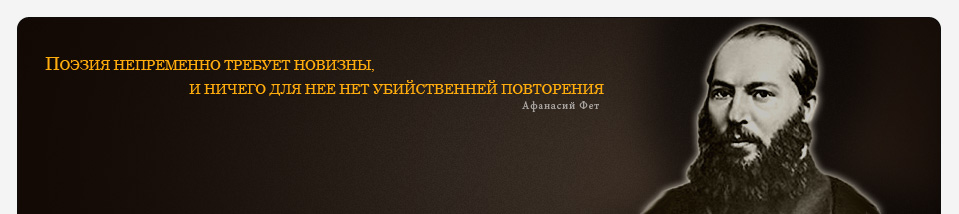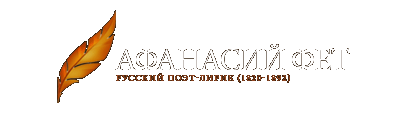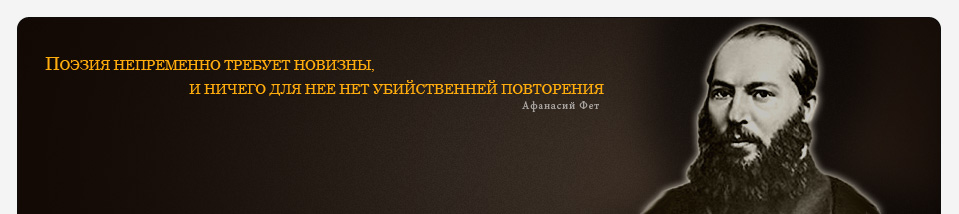|
А.А. Фет -
Письма - А. Л. Бржеской - 28 сентября <1880 г.>. Будановка.
Московско-Курской ж. д.
Станция Будановка.
"N'esperez pas faire lever a quelqu'un pour un autre le petit bout du
doigt, s'il n'a quelque interet, quelque plaisir a le faire: cela n'est pas
et ne sera jamais".
Bentham {*} {1}.
{* "Не надейтесь, что Вам удастся заставить кого-либо пошевелить
пальцем ради другого, если он в этом не видит для себя выгоды или
удовольствия: этого нет и никогда не будет" (фр.).}
Спасибо, дорогой граф, за отзыв, я только этого и жажду. Мне нужно
знать, что Вы прочли мое маранье, - очевидно, для Вас не нужное, но нужное
для меня. Слава богу, что я понимаю, с кем - в Вас - имею дело. Дай бог,
чтобы меня бранили, как я браню Вас, хотя подчас желал бы Вас укусить. Нужны
же Вы мне по той простой причине, что принадлежите к исключениям, ищущим под
словами - понятий, тогда как для всех достаточно слова: "_это ныне не в
моде_". Я третьего дня вернулся из Воронежа и, признаюсь, устал на чугунках
500 + 500 верст. <...> Сам Воронеж - хорош, лучше Тулы и Орла, берег над
широким Воронежем живописно горист и напоминает Киев. Собор громадный,
свидетельствующий о совершенном отсутствии в русском человеке архитектурного
вкуса, вследствие чего все наши церкви напоминают пять просфир, спеченных
крестообразно.
Античный портик, римский купол, татарская мечеть, католический собор,
даже индийская пагода имеют кричащий характер, а русская просвирня не
выходит из бесформенной кучи. Лучшее, что я видел в Воронеже, - это на
монастырском дворе двух журавлей, прекрасно и красиво содержанных, с
золотистокрасными бровями, прелестным хвостом и плюмажами и хохолками на
голове и ручных до смешного. Зная, что они танцмейстеры, я вызвал их на
балет, и они отличились такой резвой грацией, такой прихотью движений, что я
залюбовался. В перерывах танцев самец схватил тряпку, подшвырнул ее и, когда
она достигла зенита, сам подпрыгнул за ней, распустив крылья, и снова поймал
ее на лету. Дай бог, чтобы мой рыжий жеребец вышел такой хороший. Поэтому не
сердитесь, когда я Вас всех люблю и хвалю, и не сердитесь, когда браню, а
браню за то, что не понимаю, а не потому, что это дурно. Я люблю только то,
что прелестно пляшет в журавле, ибо это тайная жизнь, die Sache an sich
{вещь в себе (нем.).}, которую для людей знают одни поэты. Поэтому я
постоянно повторяю слова поэта Льва Толстого, ибо он писал по-журавлиному,
непонятно для себя самого, то есть истинно. Я бы мог написать книжку его
афоризмов, печатных и разговорных. Удовольствуюсь указать на ближайшие к
делу. Ясно, что как по мере расстояний Будановка уходит, а Москва приходит,
пока не придет вся в ущерб первой, так и человек, всецело задавшись
предстоящей смертью, совершенно игнорирует жизнь или может игнорировать. Что
это может быть с точностью и вероятностью брегета показано в смерти Андрея
("Война и мир"), который не слышит и не видит той, которая столько принесла
жертв и для которой он и дышал. Ни один осмысленный человек не усомнится в
этой реальной и художественной правде. Раз уже не любит жизни, она для него
ничто. Но это не у всех и даже исключение. Великий курфюрст, дед Фридриха
Великого, за час до смерти раздавал своих заводских лошадей своим генералам
и бранил за дурной выбор. Так, вероятно, буду умирать и я. Я понимаю, что
это значит отсрочивать смерть, но ведь и солнце также ее отсрочивает.
В вагоне я купил себе русскую Библию, очень добросовестный и грамотный
перевод и хорошее издание в переплете за 4 рубля. У меня не было Библии
русской. Читал со вниманием и увидал следующее. Истинное примитивно,
непосредственно и потому, будучи, с одной стороны, тайной, с другой -простое
откровение. Хранилищем такого откровения является язык, - религия, - и чем
они примитивней, тем более истинны, то есть философски. Очевидно, что на
простой вопрос, что такое? явился такой же простой ответ: семя. Ответ,
который современная биология не изменила и не уяснила. Потому что одно
простое верно. А так как семя всему голова, то есть начало всякой жизни, то
нельзя его не чтить его семейству. От этого семейного культа не ушла ни одна
народность, ни одна самостоятельная религия. Даже у нас осталось поклонение
предку, охранителю семейного угла, дышавшему, заплетающему гриву излюбленной
лошади, и когда что-либо является страшное, мы говорим, чур меня! то есть
щур - пращур меня (защити). То же было и у греков, римлян с их ларами, и еще
примитивней в Сирии, где во всяком семействе был свой домашний бог, а у
всякого города свой ваал (нарицательно). Поэтому нечего удивляться, что
Саваоф признает всех соседних богов, но постоянно толкует о своей ревности к
ним и говорит, что те не еврейские боги, а он один еврейский настоящий и
потому отдает евреям всех подданных других богов в безотчетное рабство и
терзание, как чужаков. Вот на этой-то почве выросло то нравственное учение,
над разъяснением сущности которого Вы в настоящее время работаете. Я охрип
повторять, что Вы, во-первых, осуществляете мою исконную мысль, что
Евангелие есть проповедь полнейшего аскетизма и отрицание жизни, совершенно
вопреки церковному учению о противном, а во-вторых, что я наперед уверен,
что Ваш труд {2} будет блистательным этого подтверждением. Это я сто раз
повторял Страхову.
Но как бы гениально ни было уяснение смысла известной книги, книга
остается книгой, а жизнь с миллионами своих неизбежных требований остается
жизнью и семя семенем, требующим расцвета и семени. Поэтому отрицание не
может быть руководством жизни и ее требований, тем более у человека,
существа искусственного, ибо родится наг, без рогов, копыт и подножного
корма и требует дубинки на защиту семейства и запасу и т. д. Поэтому я часто
повторяю экспромт Толстого: "Вот, Полонский, жена, дети, хлеба нету; ну что!
Так нехорошо". Отрицает Андрей. Для него нет обожаемой женщины, зато нет и
занесенного над ним ножа. Ему все это все равно. Этого для него уже нет. И
это я могу понять. Но чтобы человек мог любить хоть что-нибудь в мире, не
только жену, детей, а ну хоть старую рукопись или кофе, и в то же время
говорить об отрицании жизни, - этого я не понимаю, потому что это прямое
противоречие с исключением одним другого. Или для меня ничего нет, хоть
сейчас пропади свет и я сам, или же еще что-то осталось дорогое, в таком
случае для дела все равно: человек ли это, или любимая мысль, или ощущенье.
Любить - значит расширять свое существо на внешний объект, и почему лучше
расширять его на опиум, водку, чем на человека, кошку, гладкий фундамент под
оранжереей? Даже дошедший до крайности самоуничижения Христос говорил "Tat
twam asi" {"Это ты" (санскр.).} - "люби как самого себя - ибо это
единственное мое мерило", "никто же, когда плоть свою возненавиде, но питает
и греет ю", и скажи он: "Люби более самого себя", - надо бы навсегда закрыть
книгу. Жизнь индивидуума (у Шопенгауэра отдельной вещи) - есть смерть
другого. Это закон Дарвина, которого он не выдумал, а который знает всякий,
видевший хоть грача на пашне. Поэтому нельзя жить как-то по-новому, - иначе,
чем жил Адам, Моисей и индюшка. Меня изумил Ваш вопрос, почему я, зная тщету
жизни, не самоубьюсь? Да ведь я же точно так же, если не более, знаю тщету
еды и питья. Почему же я ежедневно пью кофе и обедаю. Мое знание, и
несомненное, нимало не мешает мне есть. Ем потому, что он (Wille) во мне
хочет, а я перевожу и говорю: "я хочу и хочу нимало не <1 нрзб.> чем < 1
нрзб.> тщету моих действий. Не естественно ли спросить, почему тот, для кого
жизнь не имеет, как наслажденье, никакой цены, не выпрыгивает из нее вниз,
что для него ни крошечки не страшнее. Ничто. Страшно только бытие, то есть
жизнь, а не ее отрицание. Отрицание жизни и небытие более чем близнецы. Это
одно и то же. Пока не увижу противного, не поверю, чтобы Софья Андреевна не
любила Вас или детей своих, потому что вижу, что она за них готова меня
укусить. И никогда я не поверю, чтобы она годовым детям шила фраки с
андреевской звездой, а взрослым давала соски с сахаром. А каждому, что ему
приятно. Марье Петровне - Митрофаньи образки, а мне журавли, и я даже не
помышляю тащить ее в журавлиную веру. Равным образом я не могу понять, как
можете Вы стать в ту оппозицию, с такими капитальными вещами, как Ваши
произведения, которые так высоко оценены мною. А меня не так-то легко
подкупить или надуть в этом деле. Если бы я по вражде убил Вас, и тогда бы
сказал, что это сокровищница художественных откровений и дай бог, чтобы
русское общество доросло до понимания всего там хранящегося. Или Вы шутите,
или Вы больны. Тогда, как о Гоголе, сжегшем свои сочинения, надо о Вас
жалеть, а не судить. Если же под этой выходкой таится нечто серьезное, тогда
я не могу об этом судить, как о великом стихотворении на халдейском языке. Я
понимаю тщету мира умом, но не животом, не интуитивно. Но понять интуитивно
и жить - этого я и у Шопенгауэра в 4-й книге, невзирая на красноречие, не
понял. Он приводит пример уморившего себя принципиально - голодом. Я не
отрицаю факта; но объясняю его тем, что боевой крючок соскочил и часы
перестали бить. Это болезнь, а не нормальное состояние. Страхов прислал
последнюю корректуру со словом: "Конец". Следовательно, жду одно: лист
предисловий и затем - готово {3}. Страхов советует мне, чтобы понять Вашу
точку зрения, дойти до отчаяния - испытал и это. Все лето доходил до
отчаяния от дождей и теперь дохожу до отчаяния: кирпич неудачен, известка не
готова, котельщики на дворе и толку нет. Все шиворот-навыворот - до
отчаяния, а крючок все-таки не соскакивает.
За границу, кажется, до марта не поеду. Чувствую, что зимой не по
силам. Знаю, что на длинное мое марание Вы скажете, это все не туда, не к
делу. Жизнь - наслаждение в лишении, в страдании. Но для козявки и Наполеона
страдание - страж на рубеже, который не надо переходить. А Вы меня туда
суете. Шопенгауэр, по словам Борисова, входит наконец в большую моду в
германских университетах. Слава богу. До глухого весть дошла. Наши общие
усердные приветствия графине. Зимой заеду в Ясную. Пожалуйста, хоть изредка
вспоминайте строчкой.
Будьте здоровы и не сердитесь.
Ваш А. Шеншин {4}.
|