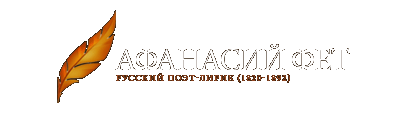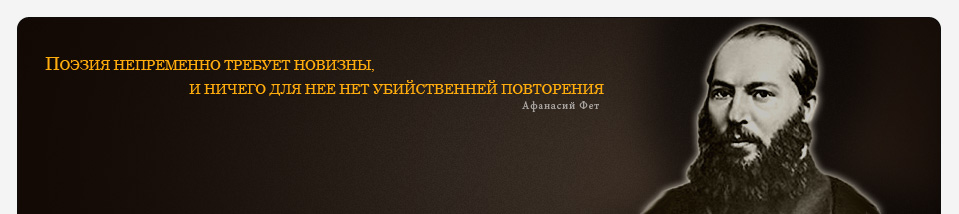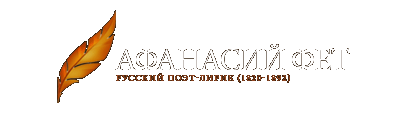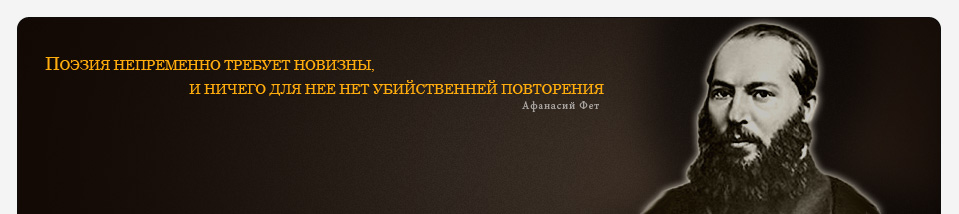|
А. А. Фет - Из книги "Мои Воспоминания"
- Был праздничный день. Мы наехали на веселые толпы молодежи вокруг
качелей и нескольких палаток с так называемым бабьим товаром и разными
сластями. <...> Ветер дул на нас со стороны деревни, относя пыль от экипажей
в сторону и волнуя пестрые ленты женских головных уборов. Ласточки, словно
принимая участие в деревенском празднестве, носились над самою землею,
назойливо шныряли вокруг качелей между группами гуляющих и под самыми ногами
наших лошадей. Всюду виднелись веселые улыбки с белоснежными зубами, и ни
одного безобразного пьяного лица. Эта сельская идиллия мгновенно возбудила
во мне мысль о новом предстоящем мне поиске неверного счастья, и, обращаясь
к отцу, я сказал:
- Вот истинно счастливые люди. Чего еще искать человеку? Право,
невольно им позавидуешь.
- Чем предаваться такому дурному чувству, - сказал отец, - от тебя
вполне зависит это счастье. Не хочешь ли на этом остановиться?
Я был окончательно разбит и только подумал: "Нельзя более резкой чертой
отделить идеал от действительной жизни. Жаль только, что старик никогда не
поймет, что питаться поневоле приходится действительностью, но задаваться
идеалами - тоже значит жить".
* * *
- Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с
бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты
(вечная тема наших горячих споров с Тургеневым), настолько в практической
жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом.
* * *
- "Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом", - говорит
Печорин Лермонтова. Вот разгадка многого, что со стороны может показаться во
мне непростительным чудачеством и кривлянием. Стоит мне заподозрить, что
меня преднамеренно наводят на красоту, перед которою я по собственному
побуждению пал бы во прах, как уже сердце мое болезненно сжимается и
наполняется все сильнейшею горечью по мере приближения красоты. <...>
красоту нельзя воспринимать по заказу с чужих слов: нужно, чтобы красота
сама устранила в душе человека всякие другие соображения и побуждения и
окончательно его победила.
* * *
- Меломаном я никогда не был, но иногда самая простая и задушевная
мелодия в состоянии подействовать на меня потрясающим образом.
Доказательством того и другого мог бы послужить концерт мадам Виардо,
прослушанный мною в Париже. <...> Прочитавши объявление о концерте, в
котором, кроме квартета, было несколько номеров пения мадам Виардо, мы с
сестрою отправились в концерт... Во все время пения Виардо Тургенев, сидящий
на передней скамье, склонялся лицом на ладони с переплетенными пальцами.
Виардо пела какие-то английские молитвы и вообще пьесы, мало на меня
действовавшие как на не музыканта. Афиши у меня в руках не было, и я
проскучал за непонятными квартетами и непонятным пением, которыми видимо
упивался Тургенев. Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо
подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела: "Соловей мой,
соловей". Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до
меня, то это неожиданное мастерское русское пение возбудило во мне такой
восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки.
* * *
- Зная мою страсть к романсам, и романсам Глинки в особенности,
Тургенев однажды вечером повез меня к певице, мужу которой не без основания
предсказывал блестящую будущность на дипломатическом поприще. Я был
представлен трем сестрам певицам, из которых две случайно в этот вечер
встретились в салоне старшей их сестры, хозяйки дома. Справедливость
вынуждает сказать, что именно сама хозяйка была менее всех сестер наделена
красотою. Спровадив более или менее формальных гостей, хозяйка сумела увести
своих сестер и нас с Тургеневым в залу к роялю, и тут началось прелестнейшее
трио. Но вот сестры хозяйки, вынужденные возвратиться домой, ушли одна за
другою, и мы остались с Тургеневым у рояли, за которым хозяйка приступила к
специальному исполнению романсов Глинки. Во всю жизнь я не мог забыть этого
изящного и вдохновенного пения. Восторг, окрылявший певицу, сообщал
обращенному к нам лицу ее духовную красоту, перед которой должна бы
померкнуть заурядная, хотя бы и несомненная, красота. Душевное волнение
Глинки, передаваемое нам певицею, прежде всего потрясало ее самое, и в конце
романса она, закрывая лицо нотами, уходила от нас, чтобы некоторое время
оправиться от осиливших ее рыданий. Минут через пять она возвращалась снова
и без всяких приглашений продолжала петь. Я никогда уже не слыхивал такого
исполнения Глинки.
<1890>
|