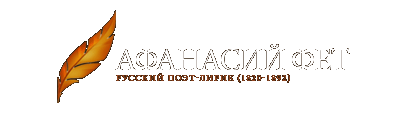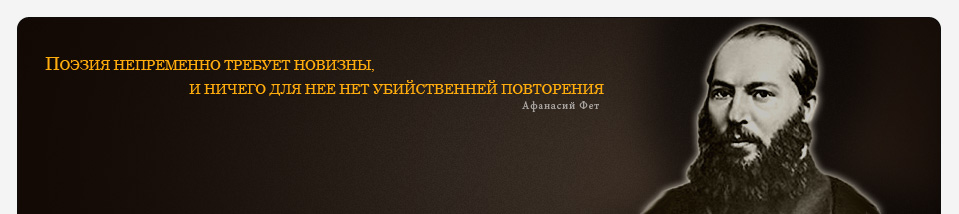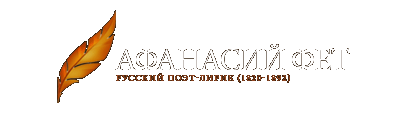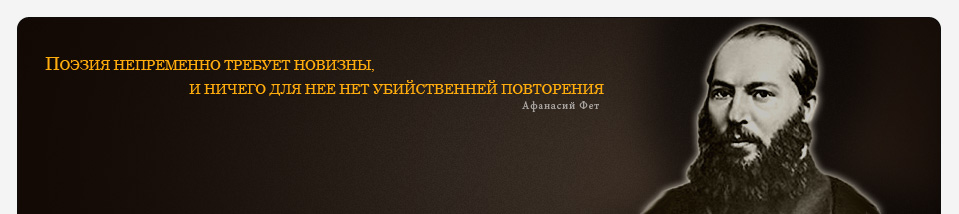|
А. А. Фет - Рассказы - Вне моды
Легкая коляска, запряженная породистою серою четверкой, бежала по
безлюдному раздолью черноземных степей, разбирая путаницу частых росстаней и
перекрестков. По левую сторону не старого, расплывшегося кучера и запуская
порою ему за спину правую руку в перчатке, чтобы придержаться за
лакированный прут козел, сидел плотный малый в щегольской серой шляпе и с
едва пробивающимися усами. В глубине коляски, у которой верх был откинут,
лицом к малому, которого звали Василием, сидел, в далеко не щегольской серой
шляпе с широкими полями и в светло-серой накидке, старик лет шестидесяти.
Седая окладистая борода его совершенно сливалась с остальным нарядом, и
только темнеющие усы и брови указывали, что когда-то он был темно-русый.
Сильно припудренные пылью, ничем не выдающиеся черты его лица выражали
усталость и апатию, а небольшие карие глаза равнодушно смотрели на
откидывающийся в обе стороны веер зеленеющих хлебных загонов. Тонкий
наблюдатель мог бы рассмотреть в этих усталых глазах некоторую вдумчивость и
проблески нетерпения.
Назовем старика Афанасием Ивановичем {1}, так как ярлык этот
общеизвестен. Рядом с ним, по правую его руку и за спиной кучера, сидела и
Пульхерия Ивановна. На ней была легкая шляпка с вуалеткой, покрывающей лицо,
и парусиновое пальто. Несмотря на ее пятьдесят лет; в волосах ее не заметно
было седины. Между ними в ногах стоял на ребро средней величины чемодан.
Кроме того, у ног Пульхерии Ивановны ютились всякого рода плетеные корзинки
и на самом сиденьи между путниками торчали ручки небольшого сака. Видно
было, что Пульхерия Ивановна добровольно подвергала себя всяким стеснениям,
лишь бы дать возможно более простора Афанасию Ивановичу. Со своей стороны,
когда какая-либо мелочь приползала с указанного ей Пульхерией Ивановной
места к нему под ноги и Пульхерия Ивановна начинала хлопотать о
восстановлении нарушенного порядка, Афанасий Иванович не без раздражения в
голосе говорил:
- Оставь, пожалуйста. Корзина нисколько меня не беспокоит. Охота тебе
возиться.
Разбегающаяся во все стороны степь только казалась до краев горизонта
сплошным зеленым ковром, там и сям изрезанным черными полосами, но, в
сущности, эта гладь нередко прерывалась значительными углублениями и даже
бесконечными оврагами, на дне которых текли степные ручьи и речки. Кроме
таких крупных задержек, представляемых самою природою края, много их
возникает в силу давнишней езды одноконных обозов в грязное, преимущественно
осеннее время. Стоит гладкому и широкому проселку углубиться на известное
расстояние в почву, и углубление это с годами превращается в тесное корыто,
по которому с величайшим трудом могут разъехаться две одноконных подводы,
зато несчастным пристяжным тройки, а тем более четверки приходится на всем,
нередко значительном, расстоянии совершать полувоздушные путешествия по
откосам.
Видно было, что старосветские помещики едут не куда-нибудь в гости к
соседям, а в более дальний путь и притом не по железной дороге, а
стародавним приемом, сохранившим гражданство в наибольшей части нашей
необъятной страны. Они действительно ехали за сто верст в другую губернию,
куда Афанасий Иванович раз в год выезжал осмотреть свое родовое имение {2}.
Почтовых лошадей в этом направлении не было; поэтому Афанасий Иванович,
вынужденный ехать на своих, распоряжался таким образом. Накануне выезда он
отправлял подводу с овсом и поваром ночевать в уездный город, лежащий на
пути в тридцати пяти верстах от дому. Повар должен был в день выезда
Афанасия Ивановича покормить на половине остальных шестидесяти пяти верст и
к вечеру прибыть в другое имение. Тем же способом отправлялись и самые
владельцы коляски, то есть с ночлегом в городе, с тою разницею, что на
другой день они на половине дороги находили высланную им навстречу свежую
четверку.
Несмотря на апатичный вид Афанасия Ивановича, было бы несправедливо
назвать его ленивым и апатичным. Он многое видел на веку, со многим
познакомился из книг и о многом передумал, и его тяготила окружающая жизнь,
пока представляла сырую массу накопившихся и давно знакомых фактов. Ему
просто надоело и претило перевертывать и перечитывать затрепанную книгу
жизни, над которой его одолевала нестерпимая скука. Он знал, что в будничном
соприкосновении с природою и с людьми встретит давно знакомые и избитые
предметы и потому с одинаковым нерасположением относился к так называемым
прогулкам и гостям; зато он оживлялся, когда ему случалось самому открыть
какой-либо новый факт или перед ним являлся собеседник, будь это человек
ученый или простолюдин, от которого он ожидал нового освещения давно
знакомых предметов. Тут апатия его мгновенно исчезала, и карие глазки его
светились огнем; он попадал в дорогую для него сферу новизны и, овладевши
какою-либо новинкой, не ограничивался одним удовлетворением любопытства, а
тотчас же старался отыскать новому факту надлежащее место в общем своем
миросозерцании. Он радовался, когда факт, как бы мелок он ни был, служил
новым подтверждением его миросозерцания, но нимало не смущался, когда в
данную минуту не умел найти ему надлежащего места. Тогда он надеялся, что
место это со временем найдется, или приходил к окончательному убеждению, что
это не его ума дело. Из этой двойственности отношений к жизни возникала и
видимая двойственность его поступков. Только неизведанное, неиспытанное его
увлекало. В этом увлечении он чувствовал свободу, тогда как перелистывание
избитой книги жизни, несмотря на свою неизбежность, казалось ему нестерпимым
рабством.
Зная, что всякий надзор за производством сельских работ в настоящее
время связан с мучительным раздражением и, в большинстве случаев, с
бесплодными усилиями, Афанасий Иванович, по природному миролюбию, старался,
в ущерб собственной выгоде, не вмешиваться лично в это дело, доставляющее
сельским хозяевам беспрестанный повод к посещениям сада и поля; а так как
эта сторона побуждений отпадала, то гигиенические мотивы прогулок казались
Афанасию Ивановичу нестерпимым рабством. Он знал, что если бы, стоя во главе
хозяйства, он, насилуя по чувству долга свое миролюбие, и явился проверить
данную работу, то дело от этого только бы проиграло. Он вдосталь испытал,
что крестьянин инстинктивно чует ту нравственную шаткость, которая
составляет характер нашей современной интеллигенции, и чувствует, что первой
нелепости достаточно, чтобы поставить барина в тупик там, где
безыскусственный здравый смысл простолюдина не встретит ни малейшего
препятствия. Опытный хозяин, он предпочитал кабинетное занятие бюджетной
стороною дела весьма важною, но находящеюся в большинстве хозяйств в полном
пренебрежении. Он знал, что нельзя правильно судить о ходе хозяйства и его
результатах, не зная наперед ни неизбежной меры расходов, ни возможного
дохода. Нельзя при нерастяжимости дохода и внезапном возвышении расхода по
отдельному производству не подумать об уменьшении бюджета на менее
необходимое в пользу неизбежного.
Давно Афанасий Иванович привык вести хозяйство из кабинета, из которого
в подзорную трубу случайно мог видеть все происходящее даже на отдаленном
конце имения, чуть не однажды в год проверяя ход дела в такую пору, когда
упущение было еще поправимо. Остальное время он предпочитал проводить в
кабинете за какою-либо интересною книгой не обширной, но избранной
библиотеки и, чтобы не засидеться совершенно, ежедневно играл две-три партии
на биллиарде с Пульхериею Ивановною.
Нельзя сказать, чтобы вся эта, по обстоятельствам искусственная, жизнь
не оставляла в душе Афанасия Ивановича налета раздражительности. Поэтому
стоило Пульхерии Ивановне, войдя в кабинет Афанасия Ивановича, сказать:
"сегодня на дворе чистый рай; жара еще не наступила; соловьи по целому парку
поют наперебой и особливо под окном кухни такой голосистый, какого я и не
слыхивала. Ты бы для воздуха прошелся хоть до оранжереи", - и Афанасий
Иванович не медля отвечал:
- Воздух, матушка, везде есть. Очень рад, что так хорошо, и я тебе не
мешаю гулять сколько угодно. Но меня, пожалуйста, уволь.
Зато иногда по собственному побуждению Афанасий Иванович, не говоря ни
слова, надевал фуражку и выходил не только на террасу, но спускался и в
партер, и в сад. Такие моменты, видимо, доставляли великое удовольствие
Пульхерии Ивановне, которая тотчас же шла следом за ним. Афанасий Иванович
знал, что природою нельзя любоваться во всякое время, а тем более по заказу.
Нужно, чтобы фотографический снаряд был надлежащим образом подготовлен для
восприятия живого образа. В минуты подобного расположения Афанасий Иванович
любовно смотрел на елки, как они, развешивая кругом молодые побеги, точно
напоказ выставляли стройные руки в светло-зеленых перчатках. Иногда, присев
у фонтана и следя за алмазным преломлением его луча, он вдруг останавливал
свой взор на округлых извоях проплывающего облака, которого с окружающей его
воздушною синевою не в состоянии произвести никакая скульптура, никакая
живопись. "Вот оно, - думалось ему, - вечно новое, которого ты постоянно
жаждешь". Случалось ему иногда задавать себе такие вопросы: вот этот побег
хмеля так и просится своею спиралью в высоту, а между тем вокруг его нет
никакой тычинки или хотя бы куста, за который он мог бы уцепиться. Только
аршина на полтора в сторону, да аршина на два от земли свесился засохший сук
ольхи: неужели хмель, направясь в сторону, поймается за этот сук? Но ведь
это может сделать только зрячий, так как нет никакой причины, не видавши
опоры, к ней тянуться, вопреки естественным условиям роста, да и не видя
сука можно сто раз промахнуться, закидывая ус. Надо завтра посмотреть, что
из этого выйдет. И когда на другой день Афанасий Иванович находил хмель
крепко вцепившимся в далекую ветку, Афанасию Ивановичу казалось, что природа
ему на радость позволяла на мгновение заглянуть в свою тайну. Равным
образом, можно бы застать Афанасия Ивановича сидящим на скамейке или на
корточках на дорожке парка и с любопытством наблюдающим хлопотливую работу
муравья, тащущего неподсильную ему веточку. Все шло хорошо, веточка
подвигалась с достаточною быстротою. Но вот препятствие: поперек дорожки
лежит еще более крупная ветка. Пробившись понапрасну над ношей, рабочий
бросает ее на месте и убегает, но через полминуты их бегут уже двое, - явно,
он позвал товарища, и они вдвоем, ухватившись за толстый конец веточки,
приподымают ее, пятясь задом через препятствие. Вдруг мимо бегущий третий,
очевидно незваный, наткнувшись на них, спешит к тонкому концу их ветки и
пихает ее перед собою. При дружных усилиях ветка переходит через
препятствие.
Перед самым отъездом Афанасий Иванович долго любовался приемами
небольшого черноватого насекомого. На полу в кабинете лежал белый ковер,
испещренный темными цветами и черными разводами. Афанасий Иванович случайно
обратил внимание на мошку, торопившуюся перебежать ковер. К немалому
изумлению, он заметил, что бежавшая проворно по черным разводам мошка каждый
раз становилась в тупик, натыкаясь на белый фон. Она видимо пугалась этого
белого и недоумевала, как продолжать путь в желаемом направлении. Постояв
некоторое время на месте, она направлялась по черной полосе, если последняя,
хотя и окольным путем, приближала ее к цели. Когда же приходилось идти
назад, мошка выбирала ближайший темный рисунок и с удвоенною быстротою
перебегала через белое поле на этот темный остров с тем, чтобы по новой
попутной черной полосе продолжать путь. И таких остановок перед белым было
множество до самого края ковра. Положим, Афанасий Иванович был знаком с
толками естествоиспытателей об охране, предоставляемой природою животным
самою их окраскою, дозволяющею им быть незаметными в окружающей среде. Но
ведь в данном случае сама мошка ни на минуту не забывает благоприятных и
вредных условий цветов для ее безопасности и самый закон выступает во всей
таинственной очевидности. Откуда такое целесообразное побуждение? Где его
источник? Если отвечать: в побуждении, - то сочтут отвечающего тупоумным; но
скажите то же слово по-латыне: в инстинкте, - и все довольны, хотя оно
только значит: не знаю. Конечно, на такое новое Афанасий Иванович натыкался
только случайно; в остальное же время искал его у могучих писателей. Зато,
попадая в экипаж или вагон, он чувствовал себя страдательною поклажей и
невыносимо скучал. Не встречая на пути ничего нового, он старался у знакомых
предметов добиваться правды и большею частью усугублял свое раздражение
сопоставлением той путаницы понятий и суждений, с которыми большинство людей
относилось к этим предметам. Попадалась ли ему вдоль дороги темно-зеленая
полоска могучей ржи, резко отбивающаяся от остального чахлого клина, или же
подобная ей полоска приближалась перпендикулярно к дороге, Афанасий Иванович
сразу видел, что первая - на запаханной дороге, а вторая - запаханной меже.
А вот и круги сизого овса, раскиданные по тощему всходу, и Афанасий Иванович
с каким-то злорадством припоминал журнальную статью, в которой мнимая наука
гордилась открытием, что эти круги-следы удобрения, раскиданного в прошлом
году пасшимся скотом. Для Афанасия Ивановича этот факт был только указанием,
что удобрение не теряет своей силы и при поздней запашке. Когда подушка,
заправленная Пульхерией Ивановною, сбивалась на сторону или плед съезжал с
его колен, он долго взвешивал в уме - что лучше? - терпеть ли это
увеличивающееся неудобство, или выламывать лопатки, выправляя подушку за
спиною, или снова подсовывая концы пледа под ноги?
Зато при спусках в крутые балки ему предстояли тягостные передвижения.
Напрасно рассудительный кучер повторял: "Будьте покойны, мы подтормозим, и
Василий впереди лошадей будет только осаживать дышла", Пульхерия Ивановна,
не принимая никаких резонов, повторяла: "Пустите меня ради бога, я пешком
пойду".
Крутые спуски к живой воде и мосту большею частью бывают вдоль
деревень, а потому Афанасию Ивановичу поневоле приходилось вылезать из
коляски на защиту Пульхерии Ивановны от собак, и затем начиналось
ненавистное Афанасию Ивановичу размещение подушек, корзинок и т. д. Заглушая
истому, Афанасий Иванович то и дело закуривал новую папироску, а иногда
старался выразить дробным числом отношение пройденного пути к остающемуся.
Но вот коляска выбралась из последней балки и наконец взъехала на
почтовый большак, по которому до города оставалось не более одиннадцати
верст по совершенно ровной дороге. Коляска бежала, как по шоссе, и лошади до
того сладились крупною рысью, что казалось, будто такт отбивают ноги одной.
Однако через некоторое время в стройно отчетливый топот примешивался
какой-то второстепенный разлад, и кучер Ефим, вытянув изо всех сил кнутом по
спине правую пристяжную, тотчас же откидывался всем телом назад, сдерживая
остальную заскакавшую тройку. Через несколько мгновений мерный топот
восстанавливался, но затем - тот же беспорядочный дребезг, тот же резкий
удар кнута по спине правой пристяжной и то же напряженное отклонение назад
кучерской спины.
- Ефим! - восклицает Пульхерия Ивановна, - за что ты ее все бьешь?
- Ей, - внушительно отвечает Ефим, - по настоящему здесь и работать-то
не следует.
- Почему? - любопытствует Пульхерия Ивановна.
- Известно, - продолжает Ефим, - руцкая лошадь, где ж ей, примерно,
сбежать с этими?
"Вот, - подумал Афанасий Иванович, - наглядное разрешение спора об
искусственном и естественном подборе".
Солнце заметно стало спускаться к горизонту, когда, с едва
ощутительного изволока, вдали засиял купол собора единственной церкви
уездного городка. Несколько ниже, словно правильный кубический кусок сахара,
белел острог.
- Только крошечку приподымись, - сказала Пульхерия Ивановна,
поворачиваясь всем телом и с усилием запуская руки за спину Афанасия
Ивановича, - опять твоя подушка сбилась на сторону.
- Ах, матушка! - воскликнул Афанасий Иванович, - оставь, пожалуйста!
Ведь это наконец несносно! Недалеко осталось, и так доплетемся.
Но Пульхерия Ивановна, как бы не слыша ворчания Афанасия Ивановича,
напряженно вытащила у него из-под спины подушку и привела ее в надлежащий
порядок.
"Странно, - подумал Афанасий Иванович, - что люди точно нарочно
отворачиваются от очевидной истины. Как же не видать, что всеми действиями
руководит не разум, а невольная воля. Разве Ефим не понимает, что стоит ему
уменьшить рысь, и руцкая пристяжная не будет отставать? Но ему хочется
катить, и он требует невозможного. Разве Пульхерия Ивановна не видит, что
она мне досаждает? Но ей хочется, чтобы мне было покойно сидеть, и она
выносит раздражительные ответы, которые рассердили бы стороннюю женщину.
Почему же она-то не сторонняя? Ведь мы некогда были не только чужие, но даже
друг с другом незнакомые люди. И вдруг такие незнакомцы становятся гораздо
ближе друг к другу, чем сиамские близнецы, и не вследствие каких-либо
внешних мероприятий или учреждений, а прямо потому, что они муж и жена.
Самый акт сочетания мгновенно перерезает всякую самую утонченную натянутость
отношений; всякое вы мгновенно превращается в ты, один становится как бы
продолжением другого, всякое возвращение к прежней натянутости только
искусственно и лживо. То, что мнимая наука проповедует о свободе женщины,
опять-таки подсказывается не разумом, а волею. Только поиски свободы там,
где ее не отвела природа, посылают разум преднамеренно запутывать вопрос,
разрешаемый ежедневно самою природою, у которой весь он сводится к тому,
насколько новорожденные дети в состоянии кормиться тотчас по появлении на
свет. Связь между полами тем слабее, чем способнее новорожденные к
немедленному снискиванию себе пропитания. Так в куриной породе тетеревов
самец забивается куда-нибудь в глушь менять перья, предоставляя тетерьке
высиживать на земле цыплят, которые тотчас же, выбравшись из яйца, начинают
клевать. Но у птиц, вьющих гнезда на деревьях, куда одна мать не успеет
доставить птенцам достаточное количество пищи, дружелюбное отношение пар
становится необходимым, и у некоторых доходит до высшей нежности. Так,
например, соловей все время сидения самки на яйцах продолжает услаждать ее
своим пением, которое, умолкнув при появлении детей, сменяется усиленною
заботою их кормления. Явно, что хотя тут все навеки устроено согласно
органическим условиям отдельного класса, но установлено не по расчету ума, а
по неисповедимой воле, решающей сохранение данного рода. Следовательно, при
вопросе о форме брачных отношений у людей надлежит только найти
соответственную рубрику, т. е. спросить, во-первых, может ли новорожденный
ребенок тотчас же сам добывать себе пищу и, во-вторых, может ли молодая
мать, носящая свое бремя почти год, одна добывать пищу для себя и для
десятка детей. Ответ на эти вопросы укажет на форму соответственных людских
отношений".
Коляска, проехав мимо полуверстной ограды рысистых бегов, покатила по
гладкой и пыльной улице, выставляющей по обе стороны вереницы самых
разнообразных по наружному виду домов, большею частию под камышовыми и
соломенными кровлями, между которыми попадались и исправные железные.
Конечно, в целом городке нет и аршина мостовой, и при весеннем и осеннем
проезде по главным улицам приходится тонуть в грязи. И тут кабинетная наука
не оставляет бедных людей в покое и бьет на принудительную ассенизацию
города, забывая, что самый город одолжен своим существованием возможности
заваливать дворы всякого рода отбросками сподручных сырых материалов,
обрабатываемых нищенскими ремеслами. Требовать от хозяина убогой
полуразвалившейся лачуги неподсильных трат на оздоровление и без того
здоровых людей-значит насильно разгонять их в землянки по полям, куда
благодетельный прогресс до них не скоро доберется.
Прокатив мимо двухэтажного каменного дома земства, кидающегося в глаза
громадною вывеской и неопрятным крыльцом, коляска по обширной и безлюдной
площади обогнула собор и завернула по набережной небольшой реки,
превращенной мельничного плотиною в широкий пруд. Еще несколько стройных
тактов, отбитых ногами четверки, и коляска, повернув в переулок и проехав
вывеску с надписью: "Гостиница Соколова", остановилась против ближайших,
запертых ворот.
- Сбегай узнай-ка, есть ли комнаты, - проговорил Афанасий Иванович, и
спрыгнувший с козел слуга торопливо прошел в калитку.
Через минуту послышалось шуршание засова, и в распахивающихся воротах
показался не то дворник, не то жилец в синем затасканном халате. Коляска
въехала по проулку во двор и остановилась в нем перед деревянным крылечком,
на пороге которого стояла небольшая востроносая и черномазая женщина, слегка
раскидывавшая руками и повторявшая: "пожалуйте". Она указала проезжим
довольно просторную комнату с двумя окнами во двор и двумя в тесный
переулок, отделявший самый дом от соседнего забора. Незатейливая меблировка
состояла из крашеного столика между окнами во двор, нескольких стульев,
кровати против окон в переулок и подозрительного дивана спиною к переулку.
На подоконниках стояли тщательно содержимые горшки с растениями: геранью,
миртами и даже кактусом.
- Нет ли тут клопов? - спросил Афанасий Иванович, ни к кому специально
не обращаясь.
- Помилуйте! - воскликнула хозяйка, - у нас этого не бывает.
Началось ношение чемодана, корзинок, кулечков из коляски, и когда все
было расстановлено и разложено в конце комнаты, Пульхерия Ивановна спросила
хозяйку, есть ли сливки к чаю.
Лишь только чемодан был раскрыт и в комнате заслышался запах фиалки от
мыла Ралле, слуга внес два белых кувшина с водою и поставил на стул грязный
медный таз. Афанасий Иванович запер выходную дверь на крючок и начал
умыванье. Пульхерии Ивановне следовало умываться первой, во-первых, потому,
что ей предстояло еще много хлопот, а во вторых, и потому, что Афанасию
Ивановичу, при взаимной помощи, легче было, чем ей, подымать полный кувшин с
водою. Зато, когда очередь поливать дошла до Пульхерии Ивановны, она была
неумолима: "еще, еще, - говорила она, - за левым-то ухом протри хорошенько.
Я не понимаю, как тебе самому не противна эта грязь".
Наконец походный умывальник был удален, и Афанасий Иванович, к немалой
отраде, облекся в легкий парусиновый халат. Стол покрылся свежею салфеткою,
и на нем появился кипящий самовар, серебряные ножи и вилки и несколько
аккуратно свернутых пакетов, в которых оказались: индейка, язык, ватрушки и
пакетик с солью. Хотя Афанасий Иванович не имел привычки есть вечером, но
Пульхерия Ивановна нарезала таких привлекательных кусков маслянистого языка,
что он сделал ему небольшую честь. На дворе послышался топот лошадей,
которых после проваживания по улице вел Ефим. Пульхерия Ивановна отложила из
сахарницы четыре куска и сказала Василию:
- Я и на вашу долю положила чаю; убирай самовар и напой Ефима.
- Да не забудь ему сказать, - прибавил Афанасий Иванович, - чтобы
завтра в половине шестого коляска была у крыльца. До пекучки надо добраться
до дома.
- Как напьешься, - прибавила Пульхерия Ивановна, - приходи сюда накрыть
постель. Афанасию Ивановичу на кровати, а мне - на диване.
Напрасно Афанасий Иванович протестовал против такого распоряжения. Но,
заметив, что Пульхерия Ивановна стала не на шутку сердиться на вмешательство
в ее дела, он замолк и присел к столу, на который
Пульхерия Ивановна положила двойную колоду карт для вечернего пасьянса
Афанасия Ивановича. Это интересное дело никогда не совершалось без горячего
сочувствия со стороны Пульхерии Ивановны.
- Ты вот не кладешь семерку на восьмерку и двойку-то не спасаешь, -
оттого у тебя никогда и не выходит.
Заря давно погорела над крышею надворного сарая. Вошел слуга, и
началось укрывание кровати и дивана свежими простынями и натягивание свежих
наволочек на подушки.
- Поставь свечи на стол и ложись спать. Ты нам больше не нужен.
Заперев за ушедшим слугою дверь на крючок, Афанасий Иванович стал
раскладывать новый пасьянс, а Пульхерия Ивановна из припасенных цельных
газетных листов при помощи булавок устроила на низких окнах непроницаемые
для взоров со двора занавеси, оставив открытыми только окна, обращенные к
забору, откуда нельзя было ожидать нескромных глаз. Зажгли свечи, но, увидав
по часам, что скоро десять, Афанасий Иванович заметил: "не пора ли на отдых?
Ведь завтра рано вставать". Подойдя к кровати и сняв халат и туфли, он
взобрался на жесткую, как доска, постель.
На стул у его изголовья Пульхерия Ивановна положила папиросницу,
спичечницу и коробку с персидским порошком, а сама принялась за ночной
туалет, окончания которого Афанасий Иванович не дождался. Он крепко заснул.
Солнце еще не всходило, когда Афанасий Иванович проснулся. Желая
приблизительно определить время по цвету неба (часы Пульхерия Ивановна из
предосторожности положила с вечера на стол), Афанасий Иванович взглянул в
окно через близ стоящий против него забор. На верхнем бруске последнего
сидела рядом пара голубей: сизый с золотистым отливом более крупный самец и
белая, как снежный комок, голубка. Оба они, распушившись, представляли два
небольших шара на коралловых ножках. Но едва Афанасий Иванович успел их
заметить, как самец, точно силою соскочившей пружины, высоко вскинул из
своего шара красноносую головку с раскрытыми глазами, подобрал перья на всем
теле и стал пушинка за пушинкой чистить и улаживать свое золотистое
ожерелье. При этом сизая головка, перебиравшая перышки, все дальше и дальше
совершала круг с такою свободою, как будто не состояла ни в какой
органической связи с туловищем и так же свободно озирала и оправляла
ожерелье на затылке, как и на груди. Несколько минут продолжался этот
утренний туалет, но вдруг коралловый носик, повернувшись влево, сильно
клюнул сидевшую рядом голубку. В то же мгновение ее белая головка
подпрыгнула с раскрытыми глазами. Ее носик, в свою очередь, взялся за
оттопыренные перышки ее ожерелья, но это было лишь мгновенное движение.
Носик выронил пушинку, глаза закрылись белою плевою, и головка снова ушла и
погрузилась в пушистый шар. Сизый голубь невозмутимо занялся туалетом, в то
время как голубка продолжала нежиться сном. Но вот он вторично клюнул еще
решительнее, и на этот раз голова голубки выскочила во всю длину шеи, и,
подобрав, в свою очередь, перья, голубка занялась тщательным убором своего
белоснежного ожерелья. Некоторое время оба настойчиво предавались этому
занятию, и вдруг, в один и тот же момент, мелькнули четыре крыла, раздался
мощный плеск с едва слышным подсвистыванием, и забор опустел.
Под влиянием заботы о приближающихся сборах к отъезду, Афанасий
Иванович провел часа полтора в состоянии между сном и бдением. Сквозь
дремоту он слышал, как под навесом лошади, хрустя, доедали овес, как Ефим,
проскрипев воротами, водил их на водопой. Стало окончательно светло.
Пульхерия Ивановна тихо спала как убитая, и Афанасию Ивановичу жаль было ее
будить. Но делать было нечего - он окликнул ее.
- Ах, боже мой, - простонала Пульхерия Ивановна, - зачем ты меня
будишь? Я так устала.
Афанасий Иванович подошел и слегка качнул ее за плечо, громко
проговоривши:
- Вставай, пора!
Пульхерия Ивановна открыла глаза, приподнялась с подушки и затем быстро
проговорила:
- Спасибо, что разбудил. А то бы я, пожалуй, опоздала.
Начались сборы в дорогу.
|